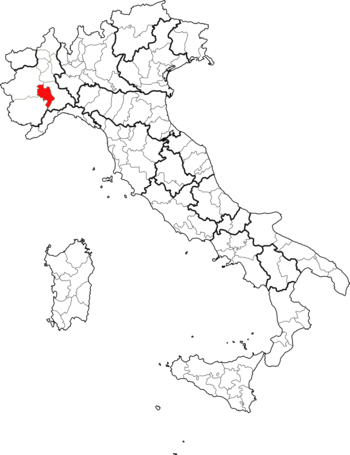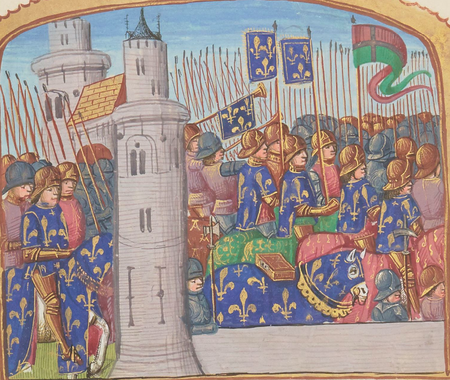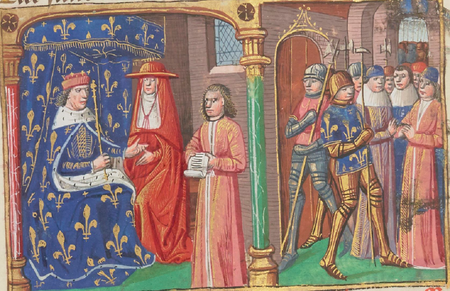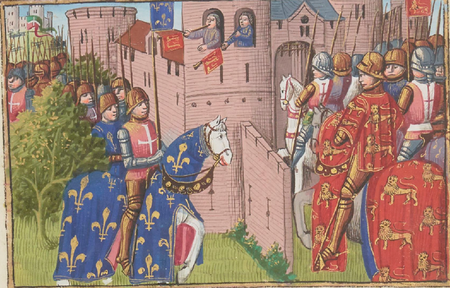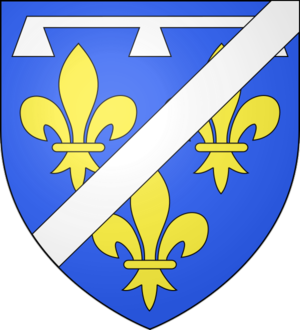Жан де Дюнуа, Орлеанский Бастард/Глава 4 Основатель династии
| ← Глава 3 Граф, милостью Божьей | "Жан де Дюнуа, Орлеанский Бастард" ~ Глава 4 Основатель династии автор Zoe Lionidas |
Возвращение домой
Торжественный въезд в Блуа, и рождение старшей дочери
|
Затянувшийся визит в Бургундию заканчивался также пышно как и начинался, сопровождаемая поздравлениями, под звон колоколов и пожелания доброго пути, нагруженная дарами орлеанская свита во главе с герцогом Карлом направлялась теперь к королевскому двору. Орлеанец никак не мог отказать себе в удовольствии прилюдно облить презрением того, кто к течение двадцати пяти долгих лет так и не пожелал протянуть ему руку помощи.
Более трезвомыслящий Бастард, прекрасно знавший характер монарха и настроения при дворе как мог уговаривал брата отказаться от подобной затеи — однако, в данный момент судьба была явно не на его стороне. Карл Орлеанский не менее упорно стоял на своем, и спор обоих братьев решился совершенно неожиданно. Король Карл со своей стороны, успел за несколько месяцев, прошедшие с момента возвращения «дражайшего кузена», спохватиться и понять, что его ждет — так что навстречу орлеанскому кортежу полетел гонец с известием, что его Величество будет счастлив принять герцога Орлеанского… частным образом. Понимая, что его блестящий план потерпел фиаско, Карл Орлеанский без лишних церемоний приказал поворачивать домой. Надо сказать, что наш Бастард был просто счастлив подобному решению — кроме причин, изложенных выше, он всей душой рвался домой, чтобы поскорее заключить в объятья ненаглядную свою Марию, 20 ноября 1440 года разрешившуюся от бремени дочерью, названной тем же именем, что и мать. И теперь обе Марии — старшая и младшая ожидали возвращения мужа и отца.
Как было уже сказано, ликованию нашего Бастарда не было пределов. Дочь, наследница, первый законный ребенок! Залог того, что имя его не угаснет в следующем поколении, и даже если у супругов не будет сыновей, несложно будет уговорить будущего зятя принять фамилию и герб Дюнуа. Подобные случаи во времена Бастарда были не редкостью… но мы опять отвлеклись. С дороги Бастард успел направить супруге, едва лишь поднявшейся после родов короткое письмо, которое вместе с выражениями радости, и поздравлениями, содержало просьбу подготовить все необходимое к встрече старшего брата[1].
24 января герцог Орлеанский торжественно въехал в Блуа, город, который видел в последний раз ни много ни мало, четверть века назад! Надо сказать, что Мария постаралась на славу: давно заброшенный замковый сад радовал глаз пышными цветочными клумбами, столы ломились от яств и вин — в честь приезда столь давно ожидавшегося гостя!… и наконец, нотабли и представители городов, срочно вызванные ко двору готовы были дать полные отчеты обо всем, что произошло за столь долгий период времени[1].
По приезде, старший брат в первую очередь позаботился о том, чтобы выделить т. н. «вдовий удел» для графини Дюнуа. Это был, дорогой читатель, общепринятый обычай в те времена: чтобы та или иная знатная женщина (или просто супруга богатого горожанина!) не осталась ни с чем в случае скоропостижной смерти супруга, из ее приданого, или же имущества мужниной семьи выделялась достаточно серьезная часть, которая не могла быть продана или заложена, и не входила в наследство будущих детей. Так что в этом случае, Карл следовал устоявшемуся обычаю; хотя, вновь забегая вперед, заметим, что предосторожность эта не понадобится и графиня уйдет из жизни раньше любимого супруга… Зато другой шаг герцога Карла был достаточно изобретательным: уговорить Жана д’Аркура, обязанного, как мы помним, выплатить приданое своей племянницы, выкупить у него любимый нашим героем Божанси, за скидку в 5 тыс. золотых экю, немедленно отдать в распоряжение брата и его супруги местный замок (в виде свадебного подарка от старшего брата, несколько запоздавшего по причинам понятного характера), в то время как город целиком должен был перейти к ним несколько позднее — в полном согласии с тем же договором.
Пока же зима проходит в хозяйственных хлопотах, вернувшийся герцог должен заново, после многолетнего отсутствия ознакомиться с положением дел в своих владениях и вместе с братом разрешить самые неотложные вопросы: помочь разоренным и ограбленным до нитки крестьянам вернуться в свои прежние дома; наладить прежний размеренный быт сельской жизни, и конечно же, взимание налогов, так как на данный момент времени отсутствие денег остро дает о себе знать[2].
Снова дела хозяйственные и возвращение ко двору
|
Короля в это время отвлекают иные заботы: как и следовало ожидать, брабантские и прочие банды наемников, окончательно уверовавших в собственную безнаказанность, вовсе не желали обращать внимания на новый закон, и по сути дела, бросали прямой вызов монархии, продолжая вести привычный образ жизни и вольготно чувствовать себя за счет населения. Против Шампани – этого рассадника анархических настроений, где за многие годы успели угнездиться грабители и мародеры, выдвинулась регулярная королевская армия под номинальным командованием наследника престола и вполне реальным – коннетабля Франции. В полумесячный срок провинция была очищена от солдатни, Бурбонский Бастард, особенно прославившийся на стезе мародерства и грабежа, был зашит в кожаный мешок и брошен в реку Об, на плахе и в петле закончили жизнь 28 его сообщников. Прочие представители того же племени, напуганные показательными казнями, взмолились о пощаде. Те, кто никоим образом не желал смириться с новым положением вещей, поспешили скрыться на землях Империи, прочие стали частью регулярных сил и были распределены по дальним гарнизонам. 27 марта короткая война с мародерами окончательно завершилась, Центральная и Восточная Франция навсегда освободились от этой беды[2]. Сколь можно судить из нашего сегодня, столь показательная расправа должна была, среди прочего, послужить недвусмысленным предупреждением для Карла Бурбонского – оставить навсегда мысли о заговорах и переворотах. Как вы уже понимаете, читатель, предупреждение своего действия не возымело.
Между тем, Карл Орлеанский, как обычно, полагая делом чести держать слово, данное англичанам и бургундцам, отправился к бретонскому двору, желая привлечь герцога Жана V к новым переговорам с врагом. Судя по всему, дальновидный Бастард не последовал за ним, как обычно, не желая прямым или косвенным образом помогать планам бургундского герцога, более того, путешествие это – вразрез со всеми его советами и предостережениями, без предупреждения о том короля и королевского совета, оставляло неприятный осадок. Надо сказать, что наш герой не ошибся, т.к. в бретонском Ренне за ширмой празднеств и увеселений, полагающихся по поводу приезда столь высокого гостя, зрел очередной заговор принцев, к которому, как несложно догадаться, присоединился вечно недовольный Жан Алансонский, бургундский герцог и прочие, горевшие желанием отомстить за позорно проваленную «Прагерию». Впрочем, пока этому замыслу еще не дано материализоваться, все остается на уровне предварительных разговоров и уверений в сотрудничестве.
Что же касается Жана Орлеанского, он в это время был поглощен куда более насущными делами. Немедленного ремонта требовало правое крыло замка Божанси, обветшавшее за многие годы запустения, кроме того, в левой стороны дальновидный хозяин собрался возвести дополнительное помещение для охраны... коротко говоря, ни для чего прочего времени не оставалось[2].
Однако, насладиться семейным уютом долгое время ему не удалось и в этот раз. Война с англичанами проложалась, и на счету был каждый опытный военачальник. Надо сказать, что в это время натиск захватчиков значительно ослабел, как сказали бы в те времена «не без причины». Неизвестно о чем думал покойный Генрих V, венчаясь с дочерью безумца – в самом деле, понятие наследственности и чистоты крови составляло квинтэссенцию идеологии феодального порядка. Впрочем, жажда власти не ему первому застила глаза, а желание во что бы то ни стало «законным путем» получить французскую корону, как видно, перевесило все прочие рациональные соображения. Коротко говоря, произошло то, что и должно было произойти: вслед за своим венценосным дедом юный Генрих впал в буйное помешательство, и теперь уже Англия погрузилась в пучину гражданской войны, известной в истории как «Война Роз». Действительно, народная мудрость «не рой другому яму» в очередной раз получила веское подтверждение. Для французского короля грех было не воспользоваться подобной возможностью, и не постараться полностью очистить от англичан Центральную Францию, оттеснив их к северной и западной границе.
Из Реймса, куда король вернулся вместе с сыном и коннетаблем Ришмоном, после утомительного, но победоносного похода в Шампань, 30 апреля Бастарду полетел приказ срочно собрать под свои знамена как можно больше людей, чтобы присоединиться к армии короля, готовившейся начать осаду Понтуаза. Как и следовало ожидать, приказ был выполнен неукоснительно. В первых числах мая следующего, 1441 года отряд Бастарда в Компьене соединился с королевской армией. Надо сказать, что при дворе великого камергера ждал достаточно холодный прием: король встретил своего старого друга упреками и резкими выпадами в адрес Карла Орлеанского, пренебрегшего и субординацией и элементарными соображениями здравого смысла. Бастард, ожидавший чего-то подобного, сумел сохранить обычное спокойствие, заверив короля, что старший брат действует подобным образом не по злому умыслу; за 25 долгих лет почти полностью потеряв связи с Родиной, и не ориентируясь в ситуации, он попросту дал себя обмануть сладкоречивому бургундцу и его приспешникам. Заканчивая разговор, Бастард клятвенно поручился, что всеми силами будет влиять на старшего и по возможности постарается открыть ему глаза на двойную игру Филиппа Бургундского; после чего инцидент сам собой оказался исчерпан.
Развитие военного успеха
Начало осады Понтуаза. Бастард отправляется в Италию
|
В качестве первого шага, Дюнуа со своими людьми должен был подчинить Крей, чтобы местный гарнизон не смог прийти на выручку осажденным. Надо сказать, что это не потребовало особых усилий; 24 мая город открыл ворота победителям. Дорога на Понтуаз была свободна. В прежние времена эта крепость считалась неприступной – огромные стены не поддавались таранам, восемь циклопических башен были окружены глубокими рвами, гарнизон не имел недостатка ни в продовольствии, ни в пресной воде, так что осада могла затянуться на годы. Раньше Понтуаз брали исключительно хитростью или находили предателя в среде местного населения. Однако, на сей раз король Карл церемониться не собирался[3]. Ситуация ухудшалась тем, что Тальбот, желая отвлечь французов от города, 15 июня обложил крепость Тартас, как мы помним, годом ранее перешедшую под власть французского короля. Кроме того, надежды англичанина питали заговорщики, успевшие к этому времени связаться с ним через посредство Жана Бретонского[3].
По его приказу, в лагерь французской армии прибыли братья Бюро, во главе устрашающего артиллерийского парка – пушек, тяжелых бомбард, кулеврин; коротко говоря, артподготовка в короткий срок пробила солидную брешь в одной из стен, и французская армия бросилась на приступ. Надо сказать, что гарнизон оборонялся с мужеством отчаяния, и несмотря на все усилия, французам лишь три месяца спустя удалось ворваться в город. Бастард самолично водил на приступ свои отряды, однако, не увидел окончательной победы, т.к. во время передышки после очередного боя, его нашло письмо от старшего брата.
Карл Орлеанский настоятельно просил его немедленно отправиться в Италию, где графство Асти, бывшее когда-то приданым Валентины Висконти, подвергалось недюжинной опасности. Дело в том, что старый герцог Джан Галеаццо Висконти за прошедшие годы успел отдать Богу душу, а его преемник – младший брат Валентины Филиппо Висконти рассудил, что эта богатая земля будет куда органичнее смотреться в составе его владений. Неожиданно возникший спор требовалось уладить дипломатичному Бастарду, как мы помним, уже неоднократно положительно зарекомендовавшему себя на ниве переговоров.
Надо сказать, что его желание совпало с планом короля, которому в скором времени стало известно о заговоре; с целью нейтрализовать Карла Орлеанского (которого заговорщики изо всех сил пытались поссорить с братом), Бастард, после тайного совещания с властелином, 1 августа, ненадолго вернулся в Блуа, чтобы затем отправиться в Италию. Надо сказать, что все усилия Жана Бретонского и иже с ним поссорить обоих братьев, благополучно провалились; более того, именно в это время старший, в знак своего благоволения, отдал графства Блуа и Дюнуа нашему Бастарду «в вечное владение». Кроме того, Мария в это же время получила от дядюшки баронство Лоньи (Орн), так что теперь Жан де Дюнуа становился зажиточным человеком!...[4]
Надо сказать, что сам Бастард с достаточным скепсисом (а вас это удивляет, читатель?) отнесся к подобному поручению, полагая, что итальянское графство Асти, слишком далекое от основных владений орлеанской династии трудно и слишком дорого будет удерживать в руках. Не забудем также, что перед глазами у него был более чем яркий пример Людовика Анжуйского (мужа королевы Иоланды) и его сыновей Людовика и Рене, старший из которых сложил голову в Италии, а младший бессмысленно тратил усилия и деньги, добиваясь для себя неаполитанской короны. Однако, спорить с братом также не было резона, и в конце лета 1441 года Бастард пустился в дорогу, не ожидая, впрочем, от будущих переговоров никаких особых успехов. Лучше бы ему не ездить… но мы опять забегаем вперед.
Уже в дороге он узнает, что Понтуаз сдался на милость победителя 14 сентября 1441 года. Пока наш герой отсутствует, очень кратко остановимся на том, что как развиваются дальше события.
Король со своей стороны пытался хотя бы временно вывести из игры герцога Филиппа, ради чего были затеяны очередные переговоры о женитьбе королевского фаворита Карла Мэнского на Марии фон Гельдерн – племяннице бургундца. Впрочем, едва лишь посланцы короля отбыли прочь из бургундского Эсдена, как 28 октября туда со всей помпой въехал Карл Орлеанский. Принцы, в очередной раз договорились собраться для очередных переговоров в Невере, причем там же должен был присутствовать Жан де Дюнуа, чьего возвращения из Италии в скором времени ждали – ему отводилось положение переговорщика между потенциальными мятежниками и королем[5].
Надо сказать, что в этот раз все прошло достаточно гладко: вернувшись, Жан де Дюнуа встретится с бургундцем и братом в Ретеле, затем отправится в Сомюр, к королю, где опять же, без труда сумеет добиться разрешения на будущие переговоры с недовольными принцами (где также должны были присутствовать двое посланцев короны). Король настоит лишь на том, чтобы поспешить с переговорами, т.к. в скором времени ему предстоит предпринять исключительной важности кампанию[5]. Однако, обо всем по порядку.
Осада крепости Тартас. Заговор принцев терпит очередное поражение
Крепость Тартас, на берегах реки Адур, во все времена считалась ключом к Гиени, той самой «английской Гиени», уже триста лет находившейся во власти островных королей, откуда во Францию на помощь захватчикам постоянно шли подкрепления и деньги. Сейчас в крепости заперся старый приятель нашего Бастарда Карл д’Альбре вместе со своим гарнизоном, в то время как англичане безуспешно пытались выбить его оттуда — силой или хитростью. В конце концов, англичане и французы, в равной мере измотанные тяготами долгой осады, решили заключить между собой соглашение. О эти добрые старые времена, с их любовью к церемониям и клятвам! Постановлено было, что город откроет ворота неприятелю, если король Франции не придет на помощь осажденным до 1 мая 1442 года.
Конечно же, о договоре дали знать королю, и он, одобрив решение своего военачальника, немедленно принялся готовиться к походу на Юг. Карл отбыл прочь в последний день 1441 года, перед отъездом не преминув еще раз настоятельно посоветовать своему главному камергеру перед отъездом повлиять на брата и понудить его более трезво взглянуть на положение вещей. Затем, крупнейшим вассалам Юга послан был приказ 1 апреля явиться в Тулузу (возможно, король желал таким образом окончательно утвердить свою власть в этом — традиционно мятежном — регионе страны), после чего во главе внушительной армии под командованием дофина и коннетабля Франции Ришмона, Карл собственной персоной пожаловал в гости к графу Тулузскому Гастону де Фуа. Визит произвел требуемое впечатление, более того — удостоверить лояльность французскому престолу поспешил даже молодой граф д’Арманьяк — еще не так давно рьяно сражавшийся против королевских войск во времена бесславно провалившейся Прагерии, а также Карл д’Альбре, не упустивший подобного случая, чтобы засвидетельствовать почтение своему будущему спасителю. Тулузский триумф — как и предполагалось, произвел на англичан должное впечатление, и дата будущей капитуляции Тартаса была отложена до дня Св. Иоанна Крестителя (24 июня). Король, как мы уже поняли, не чуравшийся театральных эффектов, позаботился, чтобы войти в город в этот самый день — к немалой досаде и растерянности осаждавших. Этот — весьма значительный успех — дополнился еще одной хорошей новостью — в городке Сен-Север, который по пути к Тартасу был захвачен королевскими войсками, им в руки попал некий Томас Рэмптон — английский сенешаль Гиени, хранитель Большой Печати герцогства, которую он волей-неволей вынужден был передать французскому королю. Принцы, несколько встревоженные этим успехом, также решили несколько помедлить со своими приготовлениями.
Между тем Бастард вернулся в Блуа. Предчувствия снова не обманули нашего скептика: ничего, кроме цветистых обещаний получить от итальянца было невозможно. Впрочем, во Франции его ждали другие заботы. Вместе со старшим братом он, как и должно было, направился в Невер. Давно ожидаемая конференция открылась 28 января нового, 1442 года, на этом блестящем собрании присутствовали крупнейшие вассалы короны (они же — заговорщики) — герцоги Орлеанский, Бургундский, Алансонский, Бурбонский, графы Э, Вандомский и Неверский. От встречи уклонился только осторожный бретонец. Короля представляли уже знакомый нам канцлер Франции Реньо де Шартр и Луи де Бомон, член королевского совета. Надо сказать, что уже первый же день переговоров поверг мятежных баронов в глубокое уныние. Как оказалось, король также не сидел сложа руки, сумев к этому времени наголову разгромить очередной отряд мародеров, который кормил и содержал на свои средства ни кто иной, как давно отставленный фаворит де ла Тремойль. Прежде чем ошарашенные заговорщики сумели прийти в себя, 24 января последовал монарший приказ, отныне и навечно запрещавший кому бы то ни было содержать частную армию, под страхом наказания за отступничество и мятеж. Для лучшего вразумления вечно непокорных вассалов, особо отличившиеся на этом поприще сир де Понс (племянник фаворита!) а также Гийо де ла Рош были показательно лишены всего имущества как «разрушители и опустошители страны, запятнавшие себя также преступлением оскорбления величества», и что хуже всего, в нынешних обстоятельствах мятежникам оставалось лишь покорно проглотить пилюлю и усиленно заняться своими непосредственными обязанностями: обсуждением мирного договора с англичанами. Пользуясь моментом, Бастард сумел дипломатично указать брату, сколь низменные намерения и интересы чисто шкурного характера движут каждым из его новых «друзей»[6].
|
Первый шаг был сделан, сомнение в душе старшего посеяно; развивая свой успех, Жан Орлеанский, согласившийся представить королю советы и предложения, выработанные на общем собрании, наотрез отказался добавить к этому «жалобы и представления» мятежников, которые они также пытались через его посредство передать королю. Впрочем, не успокоившись на этом, принцы, полагавшие себя ущемленными в лучших чувствах, озаботились тем, чтобы самолично дать знать властелину о своих требованиях и желаниях. Канцлер короны принял их 20 марта. В пространном изложении ему поданном, многочисленная родня королевского дома в первом, втором и более дальних поколениях требовала для себя непосредственного участия в делах государства, которое полагало неотъемлемым своим правом, освященным тысячелетним обычаем, денежного и земельного возмещения для Карла Орлеанского за те многие годы, что он провел в английском плену без какой-либо надежды на возвращение домой, возвращения Жану Алансонскому отнятого у него наместничества и денежных выплат. В противном случае, этот принц крови, как всегда полагавший себя обойденным и обиженным, в совершенно неприкрытой форме угрожал своему господину, обещая перейти на сторону англичан «делавших ему лестные предложения»[6]. Герцог Бурбонский и граф Неверский требовали для себя содержания из королевской казны, как несложно догадаться, должного вылиться в немалые цифры, граф Вандомский желал восстановления своей персоны в должности великого мэтр д‘отеля короны, и наконец, Филипп Добрый — как наиболее дипломатичный и хитрый из всех, «нижайше просил» соблюдать аррасские договоренности и как можно скорее заключить прочный мир с Англией, должный в полной мере восстановить прерванные торговые отношения.
Ответ короля был короток и энергичен: бывший изгнанник, зависевший от благосклонности собственных вельмож, за прошедшие годы успел превратиться в хозяина своей страны (и добавим, мятежные принцы могли пенять только лишь на себя, что не успели или не захотели заметить подобной перемены). Посему, дипломатично, и в то же время непреклонно отказывая в их требованиях, Карл писал, что никоим образом не желает верить, будто его собственная родня готова посягнуть на его властные прерогативы; однако, если это так, и ему угрожают войной, что же — он готов принять вызов. Касательно Англии, мир невозможно было заключить при отсутствии воли к тому противоположной стороны, так и не показавшейся 1 мая 1440 года, а на следующий год приславшей для якобы переговоров простого клирика, не имеющего к тому ни малейших полномочий. Однако же, король несмотря ни на что был готов продолжать начатый процесс, и новый срок для встречи с англичанами назначался на 25 октября 1442 года. Что касается их желания участвовать в государственных делах — ну что же, король приглашал свою ближнюю и дальнюю родню встретиться в крепости Тартас и вместе обсудить последующее освобождение Нормандии[7]. Что касается требований герцога Орлеанского — король готов пойти ему навстречу и помочь рассчитаться по долгам, что касается всех прочих, им изначально предстоит доказать свою верность короне, и лишь после того разговор может пойти о неких вознаграждениях и должностях.
Впрочем, эту новую горькую пилюлю требовалось по необходимости подсластить, и за строгим выговором последовала череда празднеств, охот и балов, после которых принцы, все еще полагающие себя ущемленными в своих правах, так и не решившись на открытое выступление, разъехались по домам. К чести Карла Орлеанского следует заметить, что он во многом осознал свою ошибку, желая загладить таковую, он поспешил направить младшего брата на Юг, с поручением очистить Ангулем от мятежников под предводительством Гийо де да Роша. Надо ли говорить, что Бастард с готовностью принял подобное поручение, и, уведомив о том короля, с которым встретился в Рюффеке в пасхальное воскресенье 1442 года, немедленно взялся за дело. Дипломатичность и умение вести переговоры с любым противником и в этот раз сослужили нашему Бастарду добрую службу: дело было решено миром, и наемные банды убрались прочь. Удовлетворенный подобным результатом, король был готов забыть Карлу Орлеанскому все разногласия и обиды, а также приглашал «дражайшего кузена» к себе. Впрочем, Жан Орлеанский, сумевший без крови добиться подобного крупного успеха, при их встрече не присутствовал. Ему во второй раз требовалось посетить Италию, где ситуация вновь грозила выйти из-под контроля[8].
Между жизнью и смертью
Вторая поездка в Италию и продолжение войны
|
Надо сказать, что в его отсутствие, оба кузена смогли отлично поладить между собой, 24 мая, после долгого и сердечного разговора, Карлу Орлеанскому было выделено из казны 168 тыс.900 золотых экю, должных с лихвой компенсировать все его вынужденные затраты, после чего удовлетворенный герцог отбыл домой в Блуа. В это же время неизвестно откуда взявшиеся мародеры стали разорять земли Филиппа Бургундского, которому отныне надолго стало не до интриг против Франции и ее короля. Злые языки утверждали, что эту вечно голодную свору натравил на Бургундию сам Карл VII, столь ловким способом сумев надолго нейтрализовать своего противника. В довершение всех бед, в этом же году скоропостижно скончался Жан Бретонский — и грозная коалиция принцев сама собой развалилась на куски[9].
Как и следовало ожидать, миссия Жана Орлеанского закончилась ничем, более того, в Милане нашему герою пришлось в полной мере оценить всю глубину итальянского коварства. Все его дипломатические умения оказывались бессильными против изворотливости миланского герцога, умело топившего любой прямой вопрос в бесконечной говорильне. Итальянец изворачивался будто угорь, добиться от него окончательного «да» или «нет» не представлялось возможным, в конечном итоге, понимая всю бессмысленность дальнейшего пребывания на этой негостеприимной земле, Бастард решил вернуться домой. Единственно ему удалось добиться письменного подтверждения «прав» Карла Орлеанского на графство Асти, но никакой гарантии, что этот новый договор не останется пустой бумажкой, быть не могло. Италия для французов в этом году преподнесла все дурные сюрпризы, каковые только были возможны; 2 июня того же года, Рене Анжуйский, сын королевы Иоланды, незадолго до того освободившийся из плена, также потерпел тяжелое поражение от арагонцев, и вынужденный на всегда оставить Неаполь — столицу своего призрачного королевства, вернулся домой. Вполне вероятно, что наш Бастард встретился с ним в провансальском Эксе, однако, встреча эта была мимолетной и спешной: Жана Орлеанского здесь уже ждал королевский приказ, обязавший его как можно скорее собрать новое войско в Центральной Франции, чтобы к осени быть готовым вместе со своим добрым другом Брезе предпринять наступление на города Нижней Нормандии[9].
Между тем король развернул новое наступление против Гиени, 3 июля был занят Дакс, и вслед за тем вся область Ланд, за исключением сильно укрепленной Байонны перешла в руки французов. 7 октября была занята крепость Ла-Реоль, при том, что остатки гарнизона, запершись в городском замке, сопротивлялись еще 60 дней. Стратегически важный город был передан под управление Прежана де Коэтиви, тремя годами ранее сменившего де Кюлана на посту адмирала Франции. Надо сказать, что на призыв короля присоединиться к его войску, с готовностью откликнулись все крупные и мелкие феодалы Юга, за исключением одного лишь молодого Арманьяка, сына покойного графа Бернара. Забегая вперед скажем, что ему это не сойдет с рук.
За военными хлопотами пролетело лето, во время которого король (в только что завоеванной крепости Ла-Реоль) едва не пал жертвой очередного покушения, но успел бежать из своих охваченных огнем покоев — в одной ночной сорочке — под защиту верного адмирала де Коэтиви, который несколько позднее сменит Карла Мэнского на посту фаворита короля. Ранние холода и осенняя распутица, как то не раз уже бывало, заставили прервать победоносный поход, и войска обеих сторон, на время прекратив противостояние отступили на зимние квартиры. В Монтабане, где расположился со своим двором король Карл, к нему наконец-то явился Бастард, физически и морально измотанный тяжелой дорогой.
Впрочем, он как может борется с недомоганием и слабостью — на болезни сейчас нет времени, там, на севере командующего уже дожидается новонабранная армия. Надо сказать, что наступление началось точно в срок: 15 июля и не встретило особого сопротивления, так как группировке Жана Орлеанского и Пьера де Брезе противостояли всего лишь 6 тыс. деморализованных английских солдат. Впрочем, во главе этой не слишком боеспособной армии стоял опытный и умный граф Тальбот — давний противник нашего Бастарда. Желая дать своим солдатам отдых от долгих переходов, а заодно заманить французов в подготовленную ловушку, Тальбот приказал взять в осаду французский Конш. Однако, топорная хитрость успеха не имела, так как оба командующих, легко ее разгадав, предпочли попросту обогнуть английские позиции, и всей мощью обратиться против Галлардона, который пал в августе все того же 1442 года. Следующим в руки французов перешел Гранвилль, занятый посредством предательства, и наконец, осенняя распутица положила конец активным боевым действиям, которые на многие месяцы свелись к отдельным конным сшибкам[10].
Тальбот, этот старый лис, не собирался признавать себя побежденным даже в том весьма невыгодном положении, в которое его поставило наступление французов. Отведя армию на зимние квартиры в Кодбек, он с помощью ловкого маневра сумел оторваться от французских лазутчиков, и неожиданно явился в окрестностях Дьеппа. К счастью, горожане и крепостной гарнизон не дали застать себя врасплох, и с налета взять город нечего было и думать, однако, 20 тыс. английских солдат взяли крепость в плотное кольцо. Бастард, которого застало врасплох известие об этом маневре, все же сумел отправить на помощь городу 1500 лучников, благополучно пополнивших гарнизон, командование над осажденными, опять же по его приказу, принял умелый военачальник Тюгдюаль де Кермуазан. Впрочем, непосредственной опасности не было: Бастард слишком хорошо знал тактику врага: вплоть до наступления весны англичане скорее всего занялись бы строительством осадных укреплений, выжидая, когда закончатся холода и дожди, чтобы перейти к активным действиям[10].
Прощание с королевой Иоландой
|
Пока же Бастард, чье самочувствие продолжало ухудшаться, чувствуя себя бесконечно уставшим, ослабевшим физически и морально, 29 ноября все же заставил себя отбыть в бретонский Ренн, на церемонию коронации нового герцога этих земель — Франциска I. Впрочем, церемония эта омрачилась печальным для короля и всей его родни событием: тремя неделями раньше, в своем уютном городском особняке в Сомюре тихо скончалась «королева четырех королевств» Иоланда Арагонская. Как было уже сказано, за несколько лет до того старая королева отошла от дел, оставив сыну замок — огромный, помпезный, а заодно холодный и продуваемый всеми ветрами, она коротала последние годы в своем небольшом, но уютном особняке в Сомюре, где компанию ей составляла любимая внучка Маргарита — дочь ее старшего сына Рене и Изабеллы Лотарингской, а в зимнем саду год напролет распускались розы и свистели на все лады разноцветные птицы, ручные настолько, что безбоязненно садились на плечи старой королевы. Как было уже сказано, до последнего дня, пусть не принимая непосредственное участие в событиях, она не переставала следить за успехами своего воспитанника, вовремя подавая тактичный и разумный совет — не раз выручавший его из затруднительных ситуаций.
Казалось, что за все благодеяния, которые она оказала французскому королевству, Иоланде была дарована легкая смерть. Просто так случилось однажды, что она отправилась с визитом к одному из своих вассалов — сеньору де Тюссе, в поместье, которое когда-то сама презентовала ему в награду, по видимому, за долгую и верную службу. Назад вернулись уже крытые черной тканью носилки, которые бережно несли на своих плечах четверо мужчин.
И вот сейчас, 9 декабря, в бретонском Ренне под траурный звон колоколов, в соборе шла заупокойная месса. Бастард, в знак уважения к горю короля, с ног до головы одетый в черное, преклонив колена рядом с дофином Людовиком, коннетаблем Франции, канцлером Реньо и Пьером де Брезе молился за упокой души великой королевы — заслужившей это звание быть может, куда больше чем многие властелины, награжденные им едино за умение красиво махать мечом. Бастард истово молился за упокой души новопреставленной — пусть при жизни отношения их были далеко не всегда безоблачны, и не раз бывало, что холодный государственный ум королевы Иоланды входил в резкое противодействие с горячностью и упрямством молодого Бастарда — он не мог не оценить всю благотворность, которую имело ее влияние на французскую политику. Дофин Людовик, обожавший свою великую бабку (чувство, заметим вскользь, довольно редкое для его черствой натуры), на выходе из собора надел свой шаперон, и обмакнув кончики пальцев в чашу со святой водой, и осеняя себя крестным знамением произнес слова, оставшиеся в веках: «Это была женщина с мужским сердцем».
Король, не слишком скорбевший о матери и отце, был потрясен этой смертью. В течение полугода он отказывался снимать траур и горько плакал, вспоминая о той, что подарила ему корону Франции. С уходом его приемной матери узы, соединявшие его с детскими годами рвались окончательно, отныне — повзрослевший и опытный, он мог рассчитывать только на самого себя и своих верных советников — выученников все той же мудрой государственной школы. Не имея возможность отблагодарить Иоланду (как часто мы медлим с благодарностью родителям и опекунам, пока не становится слишком поздно!…) он поспешил осыпать благодеяниями ее сына — Карл Мэнский получил во владение Жиен, Сен-Максен, Шизе — и в качестве вишенки на торте пост королевского наместника Юга. В течение полугода король будет безутешен, пока от мрачных мыслей его не сумеет отвлечь старший сын покойной — Рене. Из итальянского Неаполя от также не успеет вернуться в срок, чтобы проститься с матерью, но полгода спустя прибудет к королевскому двору вместе с супругой и свитой — в которой будет состоять шестнадцатилетняя фрейлина новой королевы Сицилии Изабеллы (супруги Рене), Агнесса Сорель. В это время она еще подросток, неуклюжий и застенчивый, однако ее удивительная красота, которую со временем воспоют поэты и художники будут наперебой спешить запечатлеть на полотне — уже начинает пробуждаться. Неизвестно, было ли это случайностью или ловким ходом со стороны Рене Анжуйского, да и король обратит на нее внимание далеко не сразу. Пройдет несколько месяцев, пока Дама-Краса, каким будет впоследствии ее прозвище при дворе завладеет сердцем короля, но его привязанность сохранит до самой смерти. Тонкий психолог, отличная собеседница, она довершит начатое — превратив Карла Французского в подлинного монарха и властителя своей страны. Крошечный штрих к портрету — ее куратором и советником при дворе до самого конца будет оставаться Пьер де Брезе, лучший выученик в школе Иоланды. Таким образом, благотворное влияние старой королевы сохранит всю свою силу — уже в третьем поколении.
Смертельная болезнь, по счастью, отступает
|
Впрочем, Бастарду пока нет до этого дела. Чувствуя себя совершенно разбитым и больным он выхлопотал разрешение отлучиться прочь (прошли времена, когда любой крупный феодал мог присоединяться к действующей армии и покидать ее по собственному усмотрению!) и наконец-то вернулся к своему возросшему семейству в Божанси. Следующие несколько месяцев он проведет между жизнью и смертью, мучаясь от жесточайших болей, причем положение в какой-то момент станет настолько серьезным, про встревоженный герцог Карл отправит гонца к королю. Вместе с верной Марией, он будет коротать время у изголовья Великого Бастарда, кончины которого доктора посоветовали ждать со дня на день. Готовясь к встрече с Всевышним, Жан де Дюнуа исповедался и причастился св. тайн, когда сам король вихрем прискакал во двор старого замка, и поспешно бросив поводья слуге, поспешил в спальню, чтобы успеть проститься с другом своих детских лет.
Но к счастью, обошлось. Крепкий молодой организм сумел перебороть недомогание и слабость, а местное белое вино с фруктовым ароматом, которым неутомимо потчевала его супруга, видимо, знавшая толк во врачевании – со временем поставило его на ноги.
Что произошло? Мы не знаем этого доныне. Естественно, нашлись горячие головы, - как прежде, так и теперь, желающие видеть в этом странном инциденте итальянские козни. Но кому и зачем нужно было травить Бастарда, всего лишь выполнявшего чужую волю?... Скорее всего, речь все-таки шла о тяжелом нефрите – воспалении почек, вызванном ночлегами на сырой земле или в продуваемых насквозь ледяным ветром гостиницах, питанием кое-как, и тяжелым путем через аппенинские перевалы.
К началу весны болезнь отступила. Она не была окончательно побеждена – приступы почечной колики будут время от времени возвращаться, давая о себе знать вплоть до самой смерти, однако, непосредственной опасности больше не было. Пользуясь временной передышкой, молодой граф занялся приведением в порядок хозяйственных дел, которые уже давно заждались своего господина. Аренда, сбор налогов и податей, споры между крестьянами – все это требовало проверок и незамедлительной реакции. Да и сам замок Божанси, в который – ради скорейшего выздоровления – распорядилась перевезти его верная супруга, нуждался в основательном ремонте.
Когда-то принадлежавший французским королям, он помнил развод Людовика VII с Алиенорой Аквитанской. Непростительная ошибка со стороны французского монарха; ветреная Алиенора тут же обручилась с английским королем, подарив ему в качестве приданого свои владения на континенте,что вызвало конфликт между обоими королями... далеким отзвуком этого старинного спора стала война, длившаяся уже без малого сто лет.
Но прошлое осталось в прошлом, сейчас же замок, уже много лет нежилой, окончательно обвалился и обветшал, в продуваемых насквозь ледяным ветром залах с выбитыми окнами ухали совы, каркали вороны, и даже устроили себе гнезда несколько стервятников, время от времени оглашавшие всю округу нестройными воплями и хлопаньем крыльев. По чести, замок следовало перестроить заново, однако, сейчас для этого не было ни возможности, ни времени. Супруги поселились в нескольких комнатках в боковом крыле – уютных и маленьких, хорошо прогревавшихся каминами (что было немаловажно для выздоравливавшего). Мария де Дюнуа позаботилась о том, чтобы каменщики и штукатуры произвели в них самый необходимый ремонт еще до приезда обоих супругов, каменные стены украшены гобеленами, ею же самолично избранная мебель завезена и расставлена по своим местам. Любящий супруг озаботился тем, чтобы окружить ее свитой из полудюжины фрейлин, взятых из лучших дворянских семей, и не меньшим количеством прислуги под управлением опытной ключницы Симоны Сикар, пользовавшейся полным доверием своей госпожи. Мария, рано оставшаяся без родителей, и с детства привыкшая переносить лишения и нужду, а также самостоятельно справляться с любыми трудностями, смущенно улыбалась, когда приближенные уважительно именовали ее «госпожа графиня».
Не привыкшая сидеть сложа руки, новая хозяйка распорядилась, чтобы возле замка был разбит сад, и уже весной, следующего, 1443 года, выздоравливающий вместе с супругой, мог в полной мере любоваться, как распускаются в новом саду первые розовые бутоны. Глубоко набожный, благочестивый католик Жан де Дюнуа, конечно же, не мог не отблагодарить Создателя за свое спасение, и потому, едва поднявшись на ноги, вместе с супругой отправился в церковь Нотр-Дам де Клери – центр местного паломничества. Когда-то славившийся своей пышностью и богатством храм, полусгоревший, разграбленный англичанами, с разбитыми витражами и сквозняками, вольготно гуляющими по всему внутреннему помещению, представлял собой печальное зрелище. Однако, все это было не так важно, т.к. здесь в неприкосновенности сохранилось главное его сокровище: миниатюрная статуэтка Богоматери, по легенде, вывернутая из земли крестьянским плугом.
Помолившись у полуразрушенного алтаря, Бастард дал обет восстановить храм во всем его богатстве – и забегая вперед, скажем, что вместе с королем Франции, также пожелавшем участвовать в столь богоугодном деле, слово свое он сдержит в полной мере. Карл Орлеанский также не забывал о младшем брате и его верной супруге, из раза в раз наезжая в гости, благо Божанси располагался на пути между двумя его излюбленными резиденциями – Орлеаном и Блуа. Братьям всегда было о чем поговорить, благо и тот и другой любили книги, настольные игры и охоту; и в эту сравнительно спокойную весну можно было выкроить время и для того и для другого[11].
Годы, богатые событиями
Дьепп. Конец «Карлова хозяйства»
|
Впрочем, как и следовало ожидать, идиллия не продолжалась слишком много времени, и едва до королевских ушей дошло, что больной поднялся на ноги, его срочно вытребовали ко двору. Ехать предстояло в Пуатье, где расположился вечно кочующий с места на место король. 22 мая нового, 1443 года Бастард пустился в путь, и три дня спустя прибыл к месту назначения.
Здесь его уже терпеливо дожидался некий Алоиз Боз, итальянец, привезший наконец с собой задержавшийся ответ миланского герцога. Видимо, поразмыслив со всей трезвостью и взвесив все за и против, Филиппо Висконти пришел к выводу, что ссориться с могущественным орлеанским домом пока что преждевременно. Посему, в качестве половинчатой меры (ох уж это итальянское коварство!) он уступал спорную территорию на сорок лет — читай, до того времени, когда почувствует себя достаточно сильным, чтобы окончательно прибрать ее к рукам. Пока же, чтобы окончательно умаслить своего грозного противника, он предоставлял наместничество над ней никому иному, как нашему Бастарду, к которому — по собственному уверению — успел проникнуться искренним уважением. В герцогской искренности, пожалуй, стоило усомниться, однако, Жан де Дюнуа не стал вдаваться в подобные тонкости. Холодно поблагодарив посланника за высокую честь, он почти немедленно назначил на этот пост одного из своих людей, и никогда более не пересек Аппенинских гор. Кроме того, великого камергера короны занимали сейчас совсем другие заботы.
И англичане и французы в это время в достаточной мере устали от военных действий, и тем и другим требовалась передышка — перемирие, пусть даже не очень долгое. Англичане, казалось, на сей раз вполне созрели для переговоров, которые должны были пройти при посредничестве папы римского Евгения. Однако, сейчас король был полон решимости заключить перемирие на собственных условиях, а чтобы противник был сговорчивей, ему следовало нанести чувствительное военное поражение.
9 июня на очередном военном совете, где наш Бастард присутствовал вместе с братом (незадолго до того прибывшим в город в сопровождении папского нунция), а также дофином, Рене Анжуйским и Карлом Мэнским было принято решение освободить от осады приморский Дьепп[12]. Впрочем, перед самым отъездом нашего Бастарда ожидает приятное известие: наконец-то, после нескольких лет проволочек легисты архиепископства нарбоннского утверждают за ним самим и за его потомками право владения Божанси — как мы помним, любимой резиденцией нашего Бастарда и его семейства. Искомая бумага гласила: «Дабы (отныне) власть и управление замком, городом и сеньорией, перешли в руки графа и графини де Дюнуа, и правосудие вершилось от их имени, также как к ним переходит право назначения должностных лиц».
Что касается Дьеппа, в 1435 году этот приют купцов и мореплавателей, уже достаточно долгое время находился в руках захватчиков, когда пират и авантюрист Шарль Демаре неожиданным ударом выбил из него английский гарнизон и прочно обосновался в городе, преподнеся свое завоевание в качестве дара королю Карлу VII. Начиная с этого времени Дьепп стал настоящей головной болью для англичан и их приспешников. Французские пираты, угнездившиеся в Дьеппе не давали покоя английским караванам, норовя даже перерезать морские пути, снабжавшие продовольствием столицу Нормандии — Руан. Посему, король английский потребовал от лучшего своего военачальника — уже знакомого нам Джона Тальбота — как можно скорее вернуть Дьепп. Как уже было сказано, после неудачной летней кампании, взвесив все «за» и «против», справедливо полагая, что лобовой удар, безразлично, на суше или на море, потребует слишком много крови, Тальбот почел за лучшее уморить голодом непокорный город. Посему, к Пасхе 1443 года рядом с городскими стенами вырос комплекс английских укреплений, который насмешливые горожане тут же окрестили «Малый Форт», «Карлово хозяйство», «Поворчи-ка», и наконец «Поллет» — по имени ближайшего городского района, заселенного большей частью моряками. Впрочем, несмотря на столь легкомысленные прозвища, Поллет был весьма серьезным укреплением, за стенами которого прятались ни много ни мало 200 единиц артиллерийского оружия разных калибров, днем и ночью засыпавшего Дьепп каменными и чугунными ядрами. Там же располагался отряд в три тысячи латников под командованием Гильома Пуанктона и Гильома Рапле, и наконец, самого Тальбота, и трое военачальников терпеливо ожидали, когда наконец горожане сдадутся на милость победителей, или в какой-то момент потеряют бдительность так, что внезапным ударом можно будет захватить это пиратское гнездо. Надежды эти вплоть до момента, о котором идет речь, не оправдались, жители Дьеппа были полны решимости стоять до конца, из раза в раз ремонтируя стены и башни, разрушаемые английскими бомбардами, Демаре вместе со своими людьми то и дело контратаковали английские укрепления, или же со стен встречали вылазки Тальбота ливнем стрел, ядер, кипящего масла и смолы. Местные рыболовы, не слишком симпатизировавшие захватчикам, умудрялись в безлунные ночи подплывать на своих лодкам к самому подножию городских стен, и привязывать к спущенным вниз веревках корзины с рыбой, хлебом и вином.
|
В качестве главнокомандующего для французского отряда, которому предстояло деблокировать город, поставлен был дофин Франции Людовик. Однако, еще совсем молодой (ему едва исполнилось двадцать лет!) и совершенно неопытный в военных вопросах, он нуждался в умном помощнике и советнике, в качестве которого, как вы уже догадались читатель, назначен был наш герой. Жан де Дюнуа не собирался терять времени. В город в качестве подкрепления был отправлен отряд из 400 латников под командованием Артюса де Лонгеваля и Томá Друйна. Основные силы под номинальным командование дофина, и вполне реальным — Орлеанского Бастарда, в скором времени подошли к «Малому Форту» на расстояние одного лье (ок. 4 км), после чего вперед были отправлены разведчики. Бастарду требовалось немало труда, чтобы сдерживать дофина, который как любой неопытный вояка, со всем пылом рвался немедленно ввязаться в бой. Атаковать Поллет было решено 13 августа, за оставшиеся дни в полной мере подготовиться к этому нелегкому делу. Дюнуа с помощью своих людей удалось снестись с осажденными, уведомив их о своем присутствии, а заодно получить несколько осадных машин, переносных лестниц и перекидных мостов, которые в дальнейшем можно было использовать для штурма, по приказу дофина в самом лагере спешно сколачивали осадные лестницы. Местные крестьяне с не меньшей готовностью поставляли ему фашины, с помощью которых в дальнейшем можно было засыпать рвы, окружавшие со всех сторон Поллет и через бреши в стенах (эта метода была уже хорошо освоена при штурме Понтуаза!) и через потерны попытаться пробиться внутрь.
Штурм начался как и было решено, 13 августа, однако, англичане, которых не удалось застать врасплох, встретили войско дофина столь плотным огнем из пушек, кулеврин, луков и арбалетов, что атака захлебнулась, так и не успев толком начаться, в считанные часы около 600 французов были убиты и ранены[13]. Следует заметить, что под началом Дюнуа снова были разношерстые наемники — войско нового строя еще только начало формироваться, и его не хватало на всех!… Дофин метался от солдата к солдату, белоснежный плюмаж на его золоченом шлеме появлялся то там, то тут, воодушевляя, уговаривая, увлекая за собой. Дюнуа срывал голос, пытаясь поднять войско в новую атаку, но бравые наемники, готовые служить единственно своему карману, изрыгали богохульства, топтались на месте, внося сумятицу в ряды, мешая друг другу, и не отваживаясь сделать ни шагу вперед.
Впрочем, для опытного Бастарда подобная ситуация была не в новинку. В первую очередь желая ободрить и поддержать павшего духом принца, Бастард посоветовал ему не бросаться вперед, очертя голову, «дабы не потерять войска, будучи уже обнаруженным противником, каковой не испытывает недостатка в оружии и снаряжении, а также прочно обосновавшимся за сильными укреплениями»[14], но перед началом нового наступления вознести молитву Св. Деве Клерийской. Осведомившись, в какой стороне находится святилище (Дюнуа с уверенностью указал ему на Юг), наследник престола в полном боевом облачении распростерся в грязи, перемешанной сотнями ног, моля Владычицу Неба о помощи. После победы он готов был отблагодарить ее золотом, равным весу чудодейственной статуэтки. Жан де Дюнуа также не терял времени. Несколько доверенных людей были спешно отправлены им в ближайшее селение, откуда они вернулись с двумя мюидами (268 литрами!) вина, «взятого из запасов дофина». У бочек выбили днища, разгоряченные боем солдаты шлемами черпали хмельное содержимое; тут же в опьянении преисполнившись боевого пыла, бросились на англичан, и на сей раз те не устояли. Армия, состоявшая теперь из буйнопомешанных, потерявших всякий страх, и горящих единственно яростью и жаждой убивать, таранами и топорами разнесла дубовые двери потерн, артиллерия превратила в щепы деревянные форты, прикрывавшие основное укрепление, защитники «Карлова хозяйства» были перебиты все до единого — за исключением нескольких важных персон, за которых надеялись взять изрядный выкуп. Битва завершилась на закате 14 августа 1443 года, в канун одного из величайших Богородичных праздников — Вознесения Св. Девы Марии.
Дофин Людовик показывает свой нрав
|
Освобожденный город встретил победителей праздничным звоном колоколов, музыкой, огромными охапками цветов, и наконец, криками народа, шумно приветствовавшего победителей. Но, отставив полагающуюся ему по рангу помпезность, дофин, пожелал совершить короткое паломничество к храму Св. Иакова (покровителя города Дьеппа), босоногим, с обнаженной головой. Возблагодарив Господа, Владычицу Небесную и весь сонм святых за свою победу, Людовик возобновил свой обет, пообещав Св. Деве (дополнительно к уже сказанному) немалое количество чистого серебра; а также приказал выделить из своей личной казны для города Дьеппа 200 золотых ливров, на которые отныне и ежегодно, 15 августа должен был совершаться торжественный молебен и крестный ход в память об освобождении от долгой осады. Граждане Дьеппа в награду за свою стойкость получили освобождение от тягостного налога на соль (т. н. «габели»), и нескольких других сборов — при том, что в неприкосновенности остались суммы, должные быть собранными для ремонта стен и портовых сооружений, и поддержания полной боевой готовности. В награду за достойное командование во время приснопамятной осады бывший корсар Шарль Демаре стал уже официально начальником городского порта (доходнейшая должность, что в те времена, что ныне!), Тома Друйну и Оливье Трегузелю было доверено командование над городским ополчением и гарнизоном.
Дофин триумфатором вступил в Тур, где его с нетерпением дожидался король-отец (также весьма гордый победой и возмужанием своего непокорного дитятка). Впрочем, после пышного приема, и соответствующих случаю празднеств, дофину тут же нашлось очередное задание: срочно отправиться в Лангедок, на крайний Юг страны, где уже разгоралась новая локальная война между двумя союзниками короны: Матье де Фуа, граф Тулузский и беспокойный Жан IV д’Арманьяк (настоящий рыцарь-разбойник, словно бы шагнувший в XV век прямо со времен первых Капетингов!), убивая, грабя, насилуя, делили между собой наследство безвременно умершей жены графа Матье — Маргариты де Комменж, которую супруг при жизни более чем изобретательно тиранил и притеснял, а после ее смерти воспылал любовью… к ее землям. Впрочем, оба противника стоили друг друга, граф Жан, как было уже сказано, не брезговал дорожным разбоем, пытался в ущерб королевской казне чеканить собственную монету, и наконец, вошел в соглашение с Генрихом Английским, собираяьсь ради закрепления подобного союза выдать за него дочь.
Коротко говоря, никем не ожидаемый дофин обрущился на это разбойничье гнездо, говоря языком того времени «словно ангел мести». В скором времени приведя к послушанию графа Матье, Людовик травил Арманьяка словно дикого зверя, отнимая у него один за другим города и укрепленные бурги, в конечном итоге, запер своего противника в л’Иль-Журдене, где тому ничего не оставалось делать, как униженно просить пощады. Сделав вид, будто он обманут и поддался на лесть и фальшивые клятвы Арманьяка, дофин Людовик добился того, что город открыл перед ним ворота, и далее — будто последнего бродягу с парижской мостовой, взял под стражу мятежного Арманьяка и вместе с женой и дочерьми запер на нижнем этаже его же собственного замка в ожидании суда и примерного наказания.
Надо сказать, что король был несколько скандализирован подобным обращением с одним из крупнейших вассалов короны, и потому дофину пришлось несколько убавить прыть. В противном случае судьба Арманьяка (а может быть, и его семейства была бы весьма плачевной). Дофин понимал, в отличие от своего отца, несколько задержавшегося в прошлом, что у аристократов следует отнять не только армии, но саму их власть, сделав короля единственным и абсолютным господином своей страны. Взойдя на трон, Людовик будет неукоснительно следовать этой программе, и дело его продолжат короли Нового Времени, пока оно не найдет себе достойное завершение в эпоху Людовика XIV. Впрочем, вернемся к нашему герою.
В следующие дни на него пролился настоящий дождь почестей и наград. Еще до своего возвращения, дофин Людовик узнал, что старый король в качестве благодарности Жану де Дюнуа за блестящую военную победу (которая, скажем прямо, без него вряд ли бы могла состояться…) распорядился даровать ему в наследственного владение графство Лонгевилль. Это была большая честь: в прежние времена земля эта принадлежала одному из славнейших военачальников Карла V — дю Геклену, но когда его род окончательно пресекся, вернулась во владения короны. Отныне наш герой официально будет именоваться Жаном, Бастардом Орлеанским, графом де Дюнуа и Лонгевилль, однако, в истории останется лишь первая часть его фамилии. Прознав о столь почетной награде, дофин, также не желая показаться неблагодарным, ходатайтствовал перед отцом, чтобы
| |
за великую и славную службу, каковую явил могущественнейшему сеньору и отцу (нашему) дражайший и преданнейший кузен наш, Бастард Орлеанский, граф де Дюнуа и де Лонгевилль, а также нам лично, во время снятия осады, каковой англичане подвергли город Дьепп, сказанное же дело было первым, увенчавшейся нашей победой, и в каковом же деле кузен наш служил нам лично и через посредство великого множества людей своих, как то благородных, так и иных, а также имуществом своим, ничего не жалея, отдаем ему весьма добрую долю денежных вспомоществований, каковыми будет обязана и обложена волей Генеральных Штатов земля наша, именуемая Дофине, а также земли в Вобонне, относящиеся к таковому Дофине и принадлежащие сказанному кузену нашему, дабы из года в год в течение всей жизни его ему отчислена была некая сумма, каковую сказанная доля может поставить | |
а попросту говоря назначить его генеральным сборщиком налогов в принадлежащей дофину провинции Вальбонне с правом удерживать некую оговоренную ее часть в свою пользу. Касательно «пожизненности» выплаты, наш трезвомыслящий герой не заблуждался, понимая, что прижимистый дофин может в любой момент передумать… но пока же, для восстановления нового владения, изрядно разрушенного войной, эти деньги явно не были лишними[15].
Переговоры о перемирии и новые заботы
|
Между тем, в большой политике также наметился очередной сдвиг. 22 января 1444 года в Сомюр, где Бастард в это время уже успел присоединиться к вечно кочующему двору, были доставлены охранные грамоты для будущих французских послов, дающие им право беспрепятственного перемещения по земле, еще остававшейся в руках английских захватчиков. Для того, чтобы очередной рыцарь-разбойник не смог проигнорировать королевский приказ и воспользоваться удобным моментом, сопровождать их на всем пути обязаны были (со своими отрядами) граф Саффолк и Адам Молейнс, хранитель Малой Печати английского монарха. Карл Французский дал распоряжение двору перебраться в Монтиль, в то время как английская делегация расположилась в Ле-Мане.
Да, времена изменились, глумливая кличка «буржский король» навсегда канула в Лету, отныне англичанин предпочитал с дипломатической уклончивостью именовать Карла «дядей» и «французским противником»[16]. Этого последнего должны были представлять, по словам авторов того времени «герцог Орлеанский и брат его Бастард», граф Вандомский, Пьер де Брезе — генеральный сенешаль короны, и наконец Гильом Жювеналь дез Юрсен, поспешивший в столицу, чтобы загодя запастись старинными пергаментами, уже не один век бережно сохранявшимися в королевской Сокровищнице Хартий и доказывавшими неоспоримое право французского короля на владение землями, которые все еще удерживали за собой англичане (что тут скажешь, дорогой читатель. Сколь не силилось бы утвердить себя кулачное право, но даже в Средние века, многим представляющемся временем непроходимой грубости, писаный закон и общественное мнение были далеко не второстепенной силой…).
Между обеими странами на время переговоров было установлено официальное перемирие, после чего французская делегация со всей торжественностью была принята в Ле-Мане. Ну что же, все складывалось к лучшему, теперь уже английской делегация под охраной французов следовало прибыть в Тур, куда уже успел перебраться французский двор. Со всей помпой англичане вступили в город 16 апреля 1444 года. В замке Монтиль им немедленно была дана королевская аудиенция, и Карлу вручены были очередные послания от Генриха Английского, в которых адресата уважительно именовали «Высокороднейшим и превосходнейшим принцем, дражайшим французским дядей нашим», при том, что Генрих, как бы невзначай, оставлял за собой титул «короля Англии и Франции».
1 мая блестящий кортеж рыцарей и дам, равно английской и французской национальности, отправились в поля, праздновать традиционный для этого дня весенний карнавал[16], затем череда празднеств продолжалась по причине помолвки между Карлом Мэнским (младшим сыном Иоланды) и 14-летней Изабеллой Люксембургской, причем англичане и французы пировали за одним столом, и сражались бок о бок во время турниров!
Впрочем, за водоворотом банкетов, пиров и танцев, неизменно сопровождавших подобные мероприятия, герцог Карл Орлеанский и «брат его Бастард» не думали забывать об интересах семьи. Как мы помним, в английском плену уже более тридцати лет томился младший сын Людовика и Валентины — Жан Ангулемский, отправленный в Англию в качестве заложника еще в начале братоубийственной войны между арманьяками и бургундцами. Несчастный провел за решеткой почти всю свою сознательную жизнь — с 12 до 44х лет, при том, что его братьев никак нельзя было обвинить в жестокости: ресурсов герцогства просто не хватало для того, чтобы заплатить грабительский выкуп сразу за двух человек!… Сами англичане отнюдь не горели желанием расставаться со своим пленником, однако, на сей раз на стороне братьев оказался Саффолк, слишком хорошо помнивший, как Бастард по-рыцарски отпустил его на свободу «пятнадцатью годами ранее, или около того», не пожелав взять ни единого су в качестве выкупа. Саффолк активно вмешался в торги, и под его нажимом, официальный «хозяин» пленника герцог Сомерсетский 12 апреля 1444 года наконец-то согласился уступить свою добычу за 72 тысячи салюдоров, из которых 12 следовало выплатить немедленно, в то время как 60 должны были последовать уже после освобождения принца, которому было дано соизволение прибыть во французский Шербур[17].
Между тем переговоры продолжались — ради заключения прочного мира, французы были готовы уступить противной стороне Гиень, Керси, Перигор, Кале и Гинь — при условии, что за земли эти английский король принесет Карлу полагающуюся вассальную присягу. Англичане со своей стороны заявили, что готовы довольствоваться Нормандией — но на правах суверенного владения. Ситуация вновь заходила в тупик, и прочный мир вновь отодвигался в туманное будущее, сменяясь надеждой на долгое перемирие, в течение которого… многое могло измениться с обеих сторон! Закрепляя достигнутое, в жены королю Генриху Рене Анжуйский, король Сицилии (старший сын покойной королевы Иоланды) должен был отдать свою младшую дочь. За будущей английской королевой давалось 100 тыс. золотых экю в качестве приданого… и здесь все чуть не сорвалось. По какой-то причине, Рене вдруг заупрямился и отказался отдавать что-либо за исключением суверенных прав на острова Майорка и Минорка. Англичанин, ожидавший много большего, вспылил, скандал срочно пришлось тушить… но, к счастью, соглашение было достигнуто несмотря на все рогатки. Немалую роль в этом сыграли чувства английского короля, который словно мальчишка влюбился в свою красавицу-невесту (чувство это он сохранит до конца своей жизни). Так или иначе, усилиями дипломатов с обеих сторон, 22 мая монархи пришли к соглашению, двумя днями позже в церкви Сен-Мартен состоялась пышная церемония помолвки, и тем же вечером обе делегации весело пировали в аббатстве Сен-Жюльен [17].
14 мая 144 года в Туре, где временно расположился вечно кочующий королевский двор наконец-то начались переговоры о перемирии между обеими воюющими странами, и долгожданное перемирие, предусматривавшее полное прекращение военных действий до 1 апреля 1446 года наконец-то было подписано. Это случилось 28 мая, в Туре[17], причем «хранителем» его, то есть человеком, должным приглядывать за обеими сторонами, и вовремя сдерживать их воинственные порывы был назначен, как вы уже догадались, читатель, Бастард Орлеанский, граф де Дюнуа и де Лонгевилль. Впрочем, оба брата, пожалуй единственные на этом веселом празднике, не разделяли всеобщего воодушевления. Причины тому были чисто личного характера: 17 мая неожиданно для всех скончался граф Сомерсетский, его наследники отнюдь не горели желанием исполнять договор, подписанный ранее покойным, и освобождение Жана Ангулемского опять отодвигалось в неопределенное будущее. Отчаянию пленника не было предела, именно в это время этот мягкий и долготерпеливый человек впервые позволил себе упрек по отношению к братьям: «Ежели друзья мои не могут помочь мне в столь малом деле — писал он Бастарду — Я близок к тому, чтобы полагать себя покинутым.»[18] Надо сказать, что Жан Ангулемский был несколько несправедлив, хотя еще не мог знать об этом, и время его освобождения стремительно приближалось. Однако, вернемся в большую политику.
Хлопотное перемирие
|
Что касается «английского брака», он в скором времени станет реальностью, однако, счастья юной Маргарите не принесет. Действительно, слава о ее красоте гремела на всю Европу, и в Англии ее ждали почести и восхищение влюбленного супруга, однако, по свидетельству очевидцев, невеста всю дорогу через пролив плакала, не осушая глаз, как будто предчувствовала свою нелегкую судьбу. В скором времени после ее прибытия, рассудок короля окончательно помрачится, и в Англии еще долго будет продолжаться кровавая война Роз. Королева Маргарита в течение многих лет будет удерживать в своих тонких руках бразды правления, люто сражаясь за будущность уже «своей», Ланкастерской династии, но проиграет хладнокровному Генриху Тюдору, который терпеливо выждав, когда та и другая сторона окончательно истощат себя, наденет на голову английскую корону. Безумный король будет тайно убит в лондонском Тауэре, а его воинственную супругу вышлют вон из страны. Уезжая, королева Маргарита оставит на троне алую розу Ланкастеров. В Анжу она вернется уже после смерти обоих родителей, и не пожелав более выходить замуж, тихо угаснет, постаревшая и всеми забытая, в тиши анжерского дворца.
Впрочем, мы опять забегаем вперед. Бастарду сорок два года. Крепкий мужчина, в расцвете здоровья и сил, проводящий большую часть времени в седле — на охоте, войне, в путешествиях, он по-прежнему готов служить своему королю как на дипломатическом, так и на военном фронте, и надо сказать, что услуги эти в скором времени будут востребованы[19]. Добрый друг всесильного королевского министра финансов Жака Кера, пользующийся полным доверием фаворитки Агнессы Сорель, он, казалось, поднялся к вершинам своей карьеры. Хроникер Шастелен не без иронии замечает, что «там, где желаемого нельзя было добыть мечом, язык его одерживал верх и смягчал сердца власть предержащих»[20].
Пока что перемирие стало реальностью — пусть сомнительное, время от времени нарушавшееся горячими головами с той и другой стороны, все же оно давало возможность стране вздохнуть свободней, а ее властителю — привести в порядок самые неотложные дела. В частности, речь шла об упрочении границ, против алчности соседей, давно заглядывавшихся на ослабевшую от бесконечной войны богатую Францию, кроме того хорошо было бы отправить прочь, за границу разношерстные банды наемников, по-прежнему тиранившие и обиравшие население там, где для того предоставлялась малейшая возможность[21]. Естественно, приоритетными оказались сразу несколько направлений, и в королевском совете разразился нешуточный спор, в котором каждая из противоборствующих сторон всеми силами пыталась перетянуть одеяло в свою сторону. Карл Орлеанский (и чисто из семейной солидарности — его более трезвомыслящий брат) предлагали всеми силами французской армии обрушится на миланского герцога, чтобы раз и навсегда отбить у этого юного выскочки охоту к интригам. Дофин со своей стороны настаивал на немедленной атаке против швейцарских земель, где ему грезилась воинская слава и огромная добыча; загодя собранное для этого похода разношерстое наемное войско было готово выступить по первому знаку. И наконец, король Сицилийский Рене (он же герцог анжуйский, старший сын Иоланды), предлагал направить удар в восточном направлении. Это должно было укрепить его позиции в Лотарингии, которая за долгие годы, пока ее господин находился в плену и в бесконечных итальянских походах, почувствовала вкус независимости, и вовсе не желала ныне возвращаться к прежнему повиновению. Но справедливости ради следует заметить, что кроме чисто меркантильного за этим предложением прослеживался и очевидный государственный интерес, что особенно подчеркивал Пьер де Брезе, доверенное лицо старого короля, одновременно никогда не забывавший, что именно анжуйцы подняли его из безвестности к вершинам государственной власти.
Итак, Пьер де Брезе не без основания обращал внимание Карла, что восточный поход во-первых, произведет отрезвляющее действие на германского императора, давно заглядывавшегося на земли Восточной Франции, во-вторых, послужит отличным предостережением для Филиппа Бургундского, более чем скользкого союзника, требовавшего постоянного присмотра и бдительности, который за это время уже успел без шума прибрать к руках Люксембург, единственная наследница которого — Елизавета фон Герлитц не имела достаточно сил для защиты своего владения. В конечном итоге, именно этот план был принят, после чего Карл Орлеанский, несколько уязвленный королевским пренебрежением, в сопровождении брата[20], предпочел вернуться восвояси. Его досада со временем увеличилась еще более так как королевские войска одерживали победу за победой — без него и скажем прямо, против его воли! 25 августа дофин одержал блестящую победу над швейцарцами, при том, что их дисциплина и маневры на поле боя произвели на юного Людовика столь глубокое впечатление, что он немедленно заключил союз с побежденными, выступив в качестве посредника между ними и германским императором, пытавшемся присвоить себе Цюрих, чтобы император оказался сговорчивей, изголодавшиеся по военной добыче орды наемников были переправлены а Альзас — 14 сентября под властью французской монархии оказался Эпиналь, и торжествующий герцог Рене со всей подобающей пышностью принял короля Карла у себя в Нанси, где двор оставался до 25 мая, следующего, 1445 года. 23 февраля все в том же новом году, между императором Фридрихом III и Карлом Французским был в Трире был подписан окончательный мир, принесший Франции Верден и Тулон, которые с этого времени стали неотъемлемой частью ее территории[22]. Впрочем, вернемся к началу лета 1444 года, чтобы продолжать следить за судьбой нашего героя.
В это время из Англии гонец привез Бастарду очередное послание. «Дражайший и возлюбленнейший брат [мой] Бастард, — писал из своей темницы Жан Ангулемский — Молю и заклинаю вас, сколь то в моих силах душевных, принять ведение такового дела в свои руки, ничего для того не жалея, в чем я полагаюсь на вас, как на человека, к каковому я питаю и должен питать всеобъемлющее чувство доверия…»[20]. Надо сказать, что Жан Орлеанский не остался глух к этой отчаянной мольбе, исхлопотав очередное разрешение короля на переговоры с англичанами, он поспешил удалиться прочь от вечно кишащего интригами двора, где уже нашлись желающие обратить себе на пользу уязвленную гордость герцога Карла, и 24 июня вернуться в Блуа. Как видно, одного серьезного урока, когда-то ему преподанного хватило на всю жизнь — вплоть до конца Бастард неизменно будет придерживаться однажды избранного пути. Четыре дня спустя вдогонку ему полетело очередное послание из Англии: «Мне хотелось бы, чтобы вы приложили дополнительные усилия, дабы хлопотать о том при королевском дворе, ибо по мнению моему, это послужило бы к великой пользе вашей, и величайшему благу для нас обоих!»[23]. Впрочем, пока наследники покойного Сомерсета тянули каждый к себе, никакие переговоры были невозможны; требовалось выждать какое-то время.
Пока же дома его ждали добрые известия, супруга во второй раз была беременна, и разрешения ждали в начале осени. Возможно, в ознаменование столь радостного события, а также в благодарность за неизменную поддержку и помощь, старший брат распорядился отправить Бастарду «два сосуда из позолоченного серебра, с крышками, несущими на себе изображение герба сказанного монсеньора герцога, вкупе с двумя высокими кувшинчиками, снабженными цепочками а также дюжину стеклянных чашек, с донышками [из золота] в форме [геральдического] солнца». Финансовые дела также, казалось, пошли на лад, так что по согласованию с супругой, наш Бастард решил отложить некую сумму на ремонт замка в Лонгевилле и постройку нового, в Шатодене, должного служить обоим супругам постоянной резиденцией. Кроме того, он загорелся идеей приобрести у Жана Дальона сеньорию Шатореньо, причем цена сделки должна была составить 20 тыс. золотых экю. Для этой цели сестра Маргарита 8 сентября позволила ему заложить у ростовщиков свои драгоценности: «остроконечный бриллиант, весьма крупного размера, четыре крупные жемчужины, рубин. Засим же четыре крупных яхонта, могущие весить до восьмидесяти карат, три крупных жемчужины, и в обрамлении таковых крупный бриллиант, со множеством граней, каковые [драгоценности] сказанные Берар и Бенуа отдали в залог за 3 тыс. экю, в счет причитающихся 11 тысяч экю, должных за покупку Шатореньо, и каковые же драгоценности сказанные Берар и Бенуа обязались выкупить при наступлении следующего за тем Рождества»[23].
Возвращение Жана Ангулемского, и рождение Жана, сына Бастарда
|
Между тем, как и ожидалось, в конце сентябре 1444 года, у графа Дюнуа родился наследник! Мальчика назвали в честь отца — Жаном, казалось, счастливые родители втайне мечтали, что когда-то юные Жан и Мария пойдут по их стопам — он станет полководцем и графом, она — благополучно выйдет замуж, и продолжит род Дюнуа по женской линии. Несомненно, к радости примешивалось и некое чувство опасения — в те времена детская смертность была огромной, и мальчики, надо сказать, выживали реже чем их сестры, так что молодые родители могли почувствовать себя совершенно спокойными за малыша, когда ему исполнялось три года… и все же, это был настоящий повод для ликования!… Едва поднявшись после родов, вместе с супругом, графиня де Дюнуа отправилась на поклонение Св. Деве в издавна любимую ими обоими церквушку Нотр-Дам де Клери, отстоявшую на два лье от их обычной резиденции. Здесь, в благодарность Господу и Святой Деве за рождение наследника, оба принесли местному клиру свой первый дар: «Ради пользы и спасения душ своих, и по причине великой любви и привязанности, ими питаемой к церкви Нотр-Дам де Клери», назначили для местного капитула ежегодную ренту в размере 40 турских ливров, в то время как тот обязывался по окончанию заутрени, ежедневно молиться за их здравие Св. Богородице; по смерти дарителей ежедневная молитва должна была служиться за упокой их душ[24].
Воспреемником малыша от купели, конечно же, стал герцог Карл Орлеанский, церемония крещения состоялась 10 октября 1444 года, причем старший брат, как обычно, не поскупившийся на дары, внес свою лепту в дело покупки Шатореньо — 10 тыс. золотых экю [24].
А между тем, второй Жан, младший сын Валентины, был близок к отчаянию — время шло, а его освобождение не приближалось. На самом деле, Жан Ангулемский был несколько несправедлив. Бастард, вновь и вновь покидая семью и новорожденного сына, метался между двором и английским Кале, ведя бесконечные переговоры с англичанами при содействии доброжелательно настроенного к нему Саффолка, которому удалось уговорить герцогиню Сомерсетскую, наконец-то официально вступившую в права наследства, уступить своего пленника за 65 тыс. золотых экю. Эта сумма постепенно — по крохам, собиралась, оседая в герцогском казначействе в Блуа. Повторялась история старшего брата — феодальный клан пусть неохотно, приходил на помощь — рыцарская честь и родственные чувства хочешь-не хочешь брали верх над меркантильностью: 7 мая 1445 года герцоги Алансонский, Бурбонский, граф Маршский — выделили на освобождение пленника по 10 тыс. золотых экю каждый, столько же внес в общую кассу наш Бастард, как мы помним, его материальное положение значительно улучшилось в результате дарений последних лет. Старший брат, Карл, вложил вдвое больше, и наконец, маршал де Лоеак, супруг Марии де Рэ, занявший при дворе место ее казненного отца, из своих достаточно скудных запасов отделил еще 5. Коротко говоря, деньги были собраны, и наконец-то король пожелал очнуться от своей долгой летаргии и активно вмешаться в переговоры. Кто знает почему, быть может, состарившийся в плену Жан Ангулемский, младший сын своего отца, казался ему неопасным, или будущее рода Валуа на троне Франции уже не вызывало беспокойства?
Так или иначе, слово и поддержка монарха стали решающими, и наконец, 31 марта 1445 года постаревший, осунувшийся, изменившийся до неузнаваемости Жан Ангулемский вернулся во Францию.
| |
Дражайший и возлюбленный брат мой, — писал он Бастарду — позвольте выразить мое вам почтение… Спешу вас уведомить, что сегодня я получил свободу из рук кузена моего Саффолка, и ныне обретаюсь в Лувье, в полном здравии, в каковом городе был принят с великим почетом… С Божьей помощью я в скором времени увижу в полной мере смогу отблагодарить вас, коему я обязан своим освобождением, о чем меня уведомил кузен Саффолк, желающий также выразить свое вам почтение… | |
На следующий же день после прибытия он поставил свою подпись на документе о передаче графства Дюнуа в вечное владение нашему Бастарду. Таким образом, с юридической точки зрения сделка становилась безусловной и уже никем и никогда не могла быть оспорена[25].
По необходимости, Жан Ангулемский отправился в Нанси, где в это время находился кочующий двор короля Карла VII. Бесконечная череда празднеств в честь его освобождения — пиров, турниров, балов (шутка ли — из английского плена вернулся четвертый по значимости вельможа королевства!), бывшему пленнику, привыкшему к тишине своей темницы — была скорее в тягость. Зато куда более приятный подарок ему приготовил Бастард, уже успевший избрать для много выстрадавшего младшего брата юную невесту — Маргариту де Роган, представительницу одной из знатнейших и самых богатых бретонских фамилий. Кстати сказать, здесь же игралась свадьба «по представительству» между Маргаритой Анжуйской и королем Генрихом, позднее, в сопровождении герцога Йоркского молодая королева английская отправится на свою новую родину и будет коронована 30 мая 1445 года[25]. Сразу по окончании свадебных торжеств, Жан Ангулемский с молодой женой поспешил вернуться в свои владения. Он не оставит следа в истории, и тихо проведет оставшиеся годы вдали от дворцовых интриг и военных бедствий, в уютном семейном кругу. Судьба наградит его с большим опозданием, когда внук этой пары взойдет на французский трон под именем Франциска I.
Между тем в стране назревали очередные немаловажные события. Реформа армии, выстраданная столь огромной ценой, к которой, как мы помним, приложил руку и наш Бастард, наконец-то становилась реальностью. Армия нового типа должна была состоять из 15 отрядов по сто «копий» каждый, под управлением 15 командиров, полностью ответственных за дисциплину, выучку и снаряжение своих людей. Всем прочим, не нашедшим себе места в новых условиях было приказано «тотчас же и без всякого промедления вернуться в землю, из каковой они явились ранее, не грабя и не разоряя более бедных людей.» В полумесячный срок банды наемников, в течение последней сотни лет державшие в страхе всю Францию перестали существовать[26]. Кроме того, реальностью стала налоговая реформа, загодя подготовленная новым канцлером Франции Жювеналем дез Юрсеном (занявшим место недавно скончавшегося епископа Реймсского Реньо), и министром финансов короны Жаком Кером. Желая упорядочить взимание налогов, а также облегчить в какой-то мере положение разоренных войной крестьянских и городских семей, было объявлено что «Радея о равенстве между подданными нашими, касательно налогов и сборов, необходимых ради спокойствия и защиты королевства нашего, желаем, дабы отныне таковым не приходилось добровольно или вынужденно принимать на себя бремя налогов и воспомоществований, от каковых освобождаются другие под предлогом привилегий, духовного сана или же иной причины…»
Но вернемся к нашему герою. В качестве жеста доброй воли он уступил вернувшемуся из плена брату, которому, конечно же, отчаянно не хватало средств, город Роморартен со всеми его доходами, и 19 июня со всем гостеприимством принял в Блуа очередную делегацию, состоявшую из графа Вандомского, архиепископа Реймсского Жювеналя дез Юрсена (брата королевского канцлера), а также собственного заместителя Рауля де Гокура и Этьена Шевалье[26]. Государственные дела, как обычно, не ждали, и Бастарду на сей раз предстояло встать во главе посольства, явившегося к тему в полном составе, чтобы затем направиться в Лондон, с очередной попыткой заключить с английским королем прочный мир. Без особой надежды, надо сказать, но как известно, попытка ничего не стоит, кроме несколько уязвленного самолюбия, кроме того, как доверительно объяснил ему король, подобные попытки с французской стороны и постоянные отказы англичан автоматически выставляли последних в малопочтенной роли агрессоров. На пути в Лондон к Бастарду и его подчиненным присоединились также Бертран де Бово и Ги де Лаваль. Как и следовало ожидать, миссия благополучно провалилась. Впрочем, английский король в знак доброй воли согласился продлить перемирие еще на пять месяцев (до 1 ноября 1446 года — до личной встречи обоих королей, к которой надо сказать, оба стремились каждый по собственным причинам). Ну что же, результат скромный, но все же результат!.. По возвращении, Жану де Дюнуа приходится скакать без устали — из Шалона в Разильи, оттуда — в Тур и Монтиль, затем в Меён, выполняя многочисленные королевские поручения. Орлеанский Бастард становился по-настоящему незаменимой фигурой при дворе.
Дофин и Бастард
|
Между тем этот самый двор снедает очередная интрига: Пьер де Брезе и его окружение выступают резко против ожидаемого брака Ришмона с Катериной Люксембургской, должного по определению усилить влияние бретонцев. К стану недовольных примыкают, по-видимому Рене Анжуйский с сыном, Карл Мэнский, а также вечно недовольный и нетерпеливый дофин, как обычно предпочитающий действовать исподтишка. Впрочем, король быстро кладет конец этой подковерной возне: подозреваемым приказывают немедленно удалиться в свои владения, причем Карлу Мэнскому на два года запрещено участвовать в заседаниях королевского совета, коннетабля словесным образом призывают к порядку. Надо сказать, что в это время положение короля укрепилось настолько, что никому в голову не приходит противиться его приказу. Высшие вельможи покорно оставляют двор, и вся власть и влияние по факту сосредотачивается в руках ближайших советников короны, людей проверенных и честных, среди которых, конечно же, обретается Жан де Дюнуа[27].
Миланский посол доносит своему господину (наверняка, не слишком его тем радуя): «Из всех прочих наивысшим весом (в королевском совете) обладает по всей видимости, Орлеанский Бастард». Так или иначе, в конце июля Жан Орлеанский срочно вытребован в Шалон, ко двору, и отвечая на королевский приказ, 7 августа вместе с супругой появлятся в Нотр-Дам де л’Эпин, по соседству с Шалоном, где в это время набожный король, в сопровождении молодой невестки, явился поклониться местным святыням. Надо сказать, что Маргарита Шотландская, не отличавшаяся крепким здоровьем, после этого путешествия сляжет окончательно, и — по всей видимости — скоротечная чахотка уже 16 августа сведет ее в могилу. Впрочем, языки тут же начали молоть, что юная дофина, давно покинутая своим бесчувственным супругом умерла от любви… наверняка к одному из молодых и галантных кавалеров, которые окружали ее при дворе. Так или иначе, эта скоропостижная смерть повергла в смятение августейшее семейство: королева слегла от нервного потрясения, король был подавлен горем, один только молодой вдовец оставался к произошедшему совершенно равнодушным — тронуть это черствое сердце в принципе своем было затруднительно. Также король, до ушей которого дошли порочащие невестку слухи, на следующий же день вернувшись ко двору, приказал провести тщательное расследование, которое, как и следовало ожидать ничего не выявило. Впрочем, оставаться в Шалоне после такого жестокого потрясения монарх не желал, и приказал немедленно перебираться в Монтиль. Жан Орлеанский с супругой, выхлопотав разрешение на восьмидневный срок вернуться на Луару, последовали за ним.
В это же время отношения между дофином и графом де Дюнуа начинают основательно портиться. Возмужавший наследник, жаждавший власти и влияния, находил политику своего отца слишком пресной и слишком беззубой в том, что касалось и англичан, и вечно мятежных бургундцев — да скажем прямо, и всех прочих. Видя в честном и непреклонном Дюнуа досадное препятствие к утверждению своего влияния при дворе, дофин в какой-то момент не выдержал. Формальным поводом для ссоры послужило заступничество Жана Орлеанского за опального Арманьяка, которого продолжали держать под стражей, в результате чего мстительный Людовик дал волю своему гневу и немедленно лишил Бастарда привилегий, им же дарованных годом ранее. Жан Орлеанский вспылил, что, скажем так, с ним случалось нечасто, и ссору удалось погасить с огромным трудом. Забегая вперед, скажем, что эти двое сумеют помириться, но до этого утечет немало воды[28].
Впрочем, пока обоих спорщиков отвлекают вести из Англии. Король Генрих через посредство французских посланников соглашается продлить перемирие до 1 апреля 1447 года, встретиться с французским монархом не позднее ноября 1446 года, а также, в знак доброй воли, поручается возвратить графство Мэнское его законному владельцу (как, впрочем, было решено еще в Туре). Надо сказать, что об этом обещании англичане (точнее, стоявший за троном герцог Саффолк, по сути дела водивший рукой слабохарактерного короля), благополучно «забудут» и графство придется возвращать себе силой. Но не будем опять забегать вперед[29].
Пока же страна может ненадолго — но все же свободно вздохнуть и заняться восстановлением разрушенного и самыми неотложными проблемами в международных отношениях. Король Карл ведет секретные переговоры с герцогом Савойским касательно потенциального вторжения на территорию Генуэзской республики. Возможность присоединить Миланское герцогство (и надо сказать, что этот план немедленно привлекает к себе внимание Карла Орлеанского!) также обсуждается при закрытых дверях на заседаниях королевского совета. В самом деле, герцог Филиппо-Мария Висконти, похоже, дышит на ладан, у него нет законных сыновей, лишь дочь, которую он поспешил выдать за авантюриста Сфорца… при том, что прав покойной Валентины никто не отменял! Овчинка стоит выделки, и обещает очень неплохие шансы на успех. Впрочем, следует выждать смерти старого герцога, и только потом развязывать войну — если к этому времени обстоятельства сложатся благоприятным образом[30].
Впрочем, нашего героя итальянские дела, как обычно, интересуют меньше всего. Зимой 1446 года, когда наш герой вместе с супругой вновь прибывают ко двору, там царит непринужденная атмосфера, которую задает королевская фаворитка Агнесса Сорель. Балы сменяются охотой, затем следуют турниры, в марте 1446 года причем наш Бастард выходит на поле против Ги де Лаваля. Документы сохранили скрупулезное описание пышного геральдического наряда, бывшего на Жане Орлеанском в тот день: «одеяние и конский чепрак из зеленого дамасского шелка, вкупе с геральдическим шарфом из той же ткани, с навершием шлема, увенчанным короной и (все вышеназванное) покрытое орнаментом из сдвоенных геральдических лилий, каковой являет собой геральдический символ принцев крови, законных детей Франции». К сожалению, документы хранят молчание об исходе этого боя, нам неизвестно, выиграл или проиграл его наш Бастард. Один праздник сменяется другим, благо для того есть повод: новый герцог Бретонский Франциск прибывает ко двору, чтобы согласно обычаю, принести вассальную присягу монарху, и здесь же — вероятно в последний раз, появляется престарелый де ла Тремойль, желающий перед смертью выхлопотать себе прощение за все прежние грехи[29].
Впрочем, идиллия завершается так же неожиданно как и началась, когда в середине лета беззаботно веселящийся двор вдруг настигает весть о скоропостижной кончине Катерины Французской, дочери короля, ранее выданной замуж за графа де Шаролле — молодого сына Бургундского герцога. Полагают, что принцесса скончалась от «жестокой лихорадки», но так или иначе, эта смерть грозит обострением отношений с Бургундией, и без того далеко не безоблачных. Кроме того, атмосферу при дворе постоянно отравляют интриги и происки дофина, неутомимо пытающегося очернить в глазах отца главных советников короны — Шабанна и Брезе, чтобы заставить их отдалиться от дел, конечно же, с выгодой для себя любимого. Но — на сей раз не проходит, 27 сентября тайное следствие изобличает принца, и тот вынужден отправиться в ссылку в свои владения в Дофине, на него также возлагается поручение продолжить переговоры с герцогом Савойским касательно Милана[31]. К осени развлечения отставлены, король возвращается к напряженной деятельности на ниве внутренней политики, Дюнуа, отправив супругу в Божанси, остается при монархе. 28 октября 1446 года реальностью становится судебная реформа, призванная упорядочить работу Парижского, а вслед за ним и провинциальных парламентов[32].
Начало войны Роз и рождение второго сына Бастарда
|
Между тем, англичане, благополучно «забывают» о собственных обещаниях, Генрих VI даже не думает пересечь Ла-Манш, про графство Мэнское также никто не вспоминает, более того, английские войска раз за разом нарушают установившееся перемирие. Посему, Жан де Дюнуа, (как мы помним, обязанный следить за соблюдением достигнутых договоренностей!) вместе с Симоном Шарлем срочно направлен в Мелён, чтобы призвать противника к порядку. В его отсутствие, король (как сеньор герцогов Орлеанских) скрепляет своей подписью акт передачи своему любимцу графства Дюнуа. Отныне оно будет оставаться во власти Бастарда и его потомков, вплоть до окончательного пресечения этого рода в XVIII веке. Но — не будем забегать вперед[32].
Жан Орлеанский возвращается 20 декабря, везя с собой очередной договор, подписанный обеими сторонами в Жюзье пятью днями ранее. В нем содержится обещание (только обещание!), что английские послы прибудут во Францию не позднее 1 апреля будущего года, причем, перемирие должно продлиться минимум до этой даты. Впрочем, Дюнуа удается несколько приструнить англичан, так что грабительские набеги на время прекращаются — и то результат!…[33]
По любопытному совпадению Дюнуа возвращается в Тур, ко двору 23 декабря 1446 года, и в этот же самый день Жанна Французская, дочь царствующего монарха, венчается с графом Клермонским. Посредством этого ловкого политического хода, король накрепко привязывает к себе вечно недовольный Бурбонский дом, и остается в выигрыше. Отныне бунты и заговоры с их стороны прекращаются навсегда. Еще пятью днями позднее, опять же, по странному совпадению, в день отбытия дофина в ссылку, королева в Шиноне производит на свет своего последнего ребенка: мальчика, который будет крещен под именем Карл. Надо сказать, что младший брат попортит крови будущему королю Франции не меньше, чем тот попортил их общему отцу. Но все это, опять же, в будущем[33].
В начале следующего, 1447 года у нашего героя рождается третий ребенок — мальчик, названный Франциском, или на более привычный манер — Франсуа (получивший свое имя вслед за крестным отцом: герцогом Бретонским Франциском); именно младшему сыну Бастарда, после ранней смерти старшего брата, выпадет продолжить славный род; при том, что сын этого Франциска, названный тем же именем, что и отец, станет первым герцогом де Лонгевиллем. Но опять же, не будем забегать вперед.
Свободное время вечно деятельные супруги целиком используют на то, чтобы наконец-то придать замку Божанси обжитой и уютный вид. Две большие комнаты на нижнем этаже — с арочными потолками и драгоценными гобеленами, в полном соответствии с тогдашней модой покрывающими стены, снабжены, опять же, по моде своего времени, широкими каменными скамьями для гостей и огромным камином с прихотливой лепниной. Второй этаж, предназначавшийся скорее для проживания семьи, обшили теплыми панелями из каштанового дерева; коротко говоря, вполне довольный ремонтом Бастард, переключился на давно облюбованную часовню Нотр-Дам-де-Клери, давным-давно разрушенную и разграбленную войсками Солсбери, рвавшимися к Орлеанской крепости[34]. Старший брат, как обычно, легко поддался на уговоры нашего Бастарда, уступив ему для этой цели лучшего своего архитектора — Пьера Шовена, но едва лишь начав работы, наш герой был в скором времени вынужден передать их руководство супруге. Ситуация в стране опять требовала безотлагательных решений, в Меён, ко двору, прибыли английские послы, и присутствие великого камергера Франции было совершенно необходимо.
В данном случае англичане добивались, чтобы установившееся перемирие было продлено с 22 января 1447 года (когда собственно и было подписано) до 1 января 1448 г. Для подобного миролюбия есть вполне определенные причины: инфантильность, безволие, и становящееся все более явственным наследственное слабоумие английского короля наконец приводят к тому, что и следовало ожидать: высшие сановники, почувствовав вкус независимости желают утвердить ее в законодательном порядке; против монарха открыто выступает его собственный дядя — герцог Глостерский. Начало будущей войне Роз положено — вслед за Францией, где ей когда-то удалось вдоволь половить рыбки в мутной воде, Англия погружается в пучину гражданского противостояния. Впрочем, первые поползновения удается подавить, и арестованный верным Саффолком мятежный герцог в скором времени отдает Богу душу в королевской темнице — но начало положено, и короне уже недолго остается удерживаться на голове последнего Ланкастера.
Посему, английскому монарху сейчас не до Франции, полагая свои несчастья временными и вполне поддающимися решению, он сейчас желает себя обезопасить с этой стороны. Ну что же, «французский соперник» охотно идет ему навстречу, и в Лондон отправляется новое посольство, конечно же, под руководством нашего Бастарда, которого сопровождают архиепископ Реймсский Бертран де Бово и верный Гильом Кузино. На путешествие из королевской казны выделено 3 тыс. полновесных экю — впрочем, до того, как пересечь Ла-Манш нашему Бастарду предстоит уладить еще одну проблему.
Западная церковь продолжает пребывать в состоянии перманентного раскола и брожения. Антипапа Феликс (он же герцог Савойский Амадей VII), удобно обосновался в швейцарской Лозанне, где пользуясь безусловной поддержкой мелких немецких князьков, упорно отказывается сложить с себя власть. Ему противостоит римлянин Евгений IV, который, впрочем, умирает в скором времени, но на папском престоле его сменяет Николай V[35]. Бесконечная грызня уже утомила всех европейских государей (да и самих церковников) до последней крайности — и потому даже в самой Германии епископ Трирский, с готовностью соглашаясь на посредничество, во всеуслышание объявил: «Ежели король Французский полагает себя способным добиться умиротворения церкви, принцам-курфюрстам не следует отказывать в сотрудничестве тому, кто один из всех получил имя христианнейшего короля». Задача состоит в том, чтобы склонить кастильцев и немцев, а также самого антипапу к участию в очередном церковном соборе (который, ясное дело, будет проведен на территории Франции), где единство католической церкви будет восстановлено раз и навсегда — под эгидой римлянина.
Но этот вопрос откладывается на будущее, пока же в июне 1447 г. Бастард со своими подчиненными благополучно отбывают в Лондон. 1 июля их уже встречают со всей протокольной пышностью в Лондоне, причем с английской стороны вести переговоры должны герцог Бэкингемский, старый приятель нашего Бастарда Саффолк (незадолго до того получивший титул маркиза), и Адам Молейнс, дипломат английской короны. Нельзя сказать, что дело проходит гладко, так как англичане, гордые своими прежними завоеваниями, не желают уступать буквально ни пяди, однако, искусство и терпение нашего героя одерживают верх. Перемирие продлено до 1 мая 1448 года, причем английский король обязуется до его истечения встретиться с «французским дядей», кроме того (еще одна немалая победа!) графство Мэн, и город Ле-Ман мирным путем не позднее 1 ноября текущего года возвращаются под власть французского монарха, причем король Генрих немедленно подписывает соответствующие бумаги, и торжествующий Бастард в скором времени уже передает их своему господину.
Окончание Западного раскола
Первые шаги
|
Кстати говоря, перед отъездом он передает англичанам приглашение также прибыть на предстоящий церковный собор, получает в том благосклонное согласие, и с этим отбывает в Бурж – резиденцию, любимую королем еще с тех самых пор, когда он был изгнанником, вынужденным спасаться бегством от победоносного соперника. Двор собирается остаться там до конца предстоящей зимы – впрочем, с одной оговоркой: королева Мария полагает для себя лучшим расположиться в Турени, вместе с юными детьми, король, тронутый тактичностью супруги, дающей ему фактическую свободу, окружает ее невиданной роскошью.
Между тем, новые события меняют расстановку сил. 13 августа умирает герцог Миланский, и конечно же, оба брата нашего Бастарда спешат перейти Аппенины со свеженабранным войском, чтобы прибрать к рукам долгожданную герцогскую корону. Король выделяет им в качестве поддержки несколько тысяч человек вспомогательного войска, Бастард (как всегда равнодушный – если не сказать большего) к итальянским делам, тем не менее прикладывает все усилия, чтобы достойно вооружить и экипировать их людей. 20 сентября войско наконец достигает Италии и 17 октября терпит жестокое поражение от Франческо Сфорца, к которому присоединяются также войска итальянских республик. Французам вполне ясно дают понять, что их не желают видеть на полуострове. Хочешь – не хочешь Карлу и его присным приходится возвращаться ни с чем, а король, немедленно потерявший интерес к итальянской авантюре, сосредотачивается на других вопросах[36]. Бургундец недоволен усилением влияния французского короля в Германии, так что за ним требуется постоянный присмотр, наместник английского короля в Мэне отказывается покинуть свой пост, ссылаясь на то, что его господин не присылал ему лично никаких приказов... коротко говоря, Италия вновь отодвигается в списке королевских интересов едва ли не на последнее место; герцогу Карлу в Асти летит приказ возвращаться, однако, ему потребуется время, чтобы надежно защитить графство от поползновений Сфорца, и во Францию он вернется лишь в августе следующего, 1448 г.
Зато 7 июля в Лионе открывается съезд представителей светских государей, королевскую делегацию возглавляет финансист Жак Кер: основная цель – уговорить наконец упрямого антипапу сложить с себя власть. Бастард, пользуясь короткой передышкой, 11 октября возвращается в Божанси; четырьмя днями позднее назначен общий съезд вассалов этого нового владения, должных принести клятву верности своему господину. Впрочем, и сейчас его не оставляют в покое, вынужденный в последний момент назначить своим представителем Анжоррана Бора, бальи Божанси, «по некоим причинам важного характера, имеющих касательство к благополучию и государственным интересам королевства французского» он должен срочно «отбыть в течение этого же дня к королю и далее в Лион.»
Повторимся, христианнейший король именно Жану де Дюнуа – проверенному во многих делах политику и дипломату, поручает более чем деликатную миссию: ради прекращения многолетнего раскола убедить антипапу Феликса V (не забудем, того самого, что даровал «свободу галликанской церкви!») сложить с себя тиару в пользу Николая V – официального понтифика римской церкви.
В ноябре 1447 года, вместе с официальными послами Франции и Кастилии Бастард прибывает в Лозанну[37]. Ко всеобщему удивлению, он преуспевает и здесь – добрые отношения, которые связывают Бастарда с другом давно покойной королевы Иоланды, выдающиеся познания в области богословия (позволяющие уверенно одержать победу в любом споре!), да и просто умение вежливо склонять на свою сторону собеседника без нажима и спора – делают свое дело. Впрочем, упрямый и хитрый старик не желает сдаваться без борьбы: в награду за отречение от желает выторговать для себя место постоянного легата Св. Престола, оставить на прежних должностях всех тех, кого он ранее туда назначил, добиться, чтобы новый папа утвердил все его распоряжения, снял все отлучения и отменил все проклятия, которыми щедро сыпал в адрес своих соперников, и наконец, торжественно отречься только на Соборе, который сам антипапа для этого созовет.
На этой стадии переговоры временно прекращаются – до согласия или несогласия противоположной стороны, 1 декабря вместе с Жаком Кером Бастард составляет и нотариально заверяет «Акт отца монсеньора герцога Савойского» (как отныне дипломатично именуется антипапа), и с тем оба посла отбывают к королю[38]. Надо сказать, что с таким трудом достигнутую договоренность с антипапой едва не разрушает нетерпение римлянина, который вместе с нунцием присылает к королю грозную буллу, в которой объявляет о конфискации всех владений герцога Амадея (он же – антипапа Феликс). К счастью, конфликту не дано развиться далее, т.к. вспыльчивый римлянин и сам понимает, что перегнул палку, и в тот же день в Бурже является еще один посланец папы, с бумагой, отменяющей предыдущую, при условии, что королевские послы в полной мере будут чтить власть и достоинство римского престола. Посему, вопрос – хотя бы временно – улажен, чтобы «сеньор Феликс» не вздумал изменить своему слову, к нему, по совету Бастарда, должно будет отправиться новое посольство в составе Жана Жювеналя дез Юрсена, Таннеги дю Шателя, маршала Ла Файетта, Эли де Помпадура, и Жака Кера, в то время, когда сам Бастард собирается присоединиться к нему позднее.
Пока его ждут новые заботы: англичане, как видно пожалев о собственных словах, откровенно тянут время и отделываются пустыми обещаниями, тогда как город Ле-Ман по-прежнему остается в их руках, не зависимости от достигнутых договоренностей. Посему, новые конференции назначены, на сей раз на французской земле; первая из них заканчивается продлением перемирия до 1 января 1449 года, вторая назначает последний срок передачи города под власть французского короля: 15 января 1448 года, в противном случае, Бастард недвусмысленно предупреждает коменданта города, маркиза Дорсета, что Карл Французский готов будет утвердить свои права с помощью силы, исключив Ле-Ман из территорий, на которые распространяется перемирие.
Взятие Ле-Мана и продолжение неспешных переговоров с антипапой
|
9 февраля Бастард, в сопровождении своего доброго друга Пьера де Брезе и сеньора де Пресиньи, отправляются в Ле-Ман, чтобы получить из рук английского коменданта ключи от ворот и башен[39], в то время как король, подняв войско в ружье, начинает неспешно двигаться по направлению к Лавардену. Четырьмя днями спустя условия все еще не выполнены, в помощь Бастарду и его людям направляется 6-тысячный отряд с приказом занять предместья Ле-Мана, и таким образом, заставить англичан наконец-то соблюсти собственные обещания. Брезе просит у английских представителей Эйтона и Мэттью Гоу обеспечить французскому посольству безопасность на время очередных переговоров.
Они открываются 14 февраля в церкви Св. Николая в Ле-Мане, однако в то время как Бастард и Коэтиви пытаются завести разговор о том, чтобы продлить перемирие на то время, которое им необходимо, чтобы получить королевский приказ, в церкви появляется гонец с новостями весьма тревожного характера: за оружие взялся военный комендант города де Мондефорт, во главе отряда из шестисот человек. Эйтон, не менее чем его французские коллеги, пораженный подобной выходкой, изо всех сил пытается остановить эту самоубийственную попытку сопротивления, но все его усилия разбиваются о непреклонность коменданта. В самом деле, с этой вольницей, за многие годы привыкшей игнорировать приказы – вплоть до королевских – трудно что-то поделать, Робер де Соссей, личный представитель Бастарда, которого тот посылает к Мандефорду, чтобы узнать о намерениях последнего, в ответ на вопрос, что собираются делать английские солдаты, получает весьма недвусмысленный ответ: «Драться!». Чтобы не попасть в плен, французская делегация вынуждена галопом мчаться прочь, к счастью, их не преследуют – или же от погони удается оторваться; документы на этот счет сохраняют полное молчание.
Так или иначе, из королевской резиденции в Лавадене к Генриху VI летит пространное письмо, полное упреков в нарушении перемирия. Английский король немедленно предлагает начать очередной раунд переговоров, причем Карл Французский соглашается: перемирие позволяет ему нарастить воинскую силу и упорядочить взимание налогов, впрочем, английский король делает то же самое, и сейчас вопрос идет о том, кто из двоих монархов первым успеет почувствовать себя достаточно сильным для возобновления военных действий. Итак, новая конференция открывается 11 марта 1448 года, и перемирие продляется вновь, до 1 апреля 1450 г. Между тем, напряженная работа по реорганизации армии продолжается, вслед за конницей создается регулярная пехота, активно обновляется артиллерийский парк, закупаются порох, боеприпасы и оружие, последние приготовления закончены 28 апреля 1448 года[40]. Что касается Ле-Мана, город, обложенный со всех сторон войсками Дюнуа, в мае того же года, окончательно сдается на милость победителя, английскому гарнизону позволено убраться восвояси, забрав имущество и оружие; в качестве награды, главный камергер короны получает в награду 1200 ливров из королевской казны и короткий отпуск для возвращения домой.
Надо сказать, что англичане, изгнанные из Ле-Мана не пожелали далеко уходить и осели в гарнизонах крепостей Сен-Жам-де-Беврон и Мортен, которые поспешили дополнительно укрепить в предчувствии возможной осады. Усиление англичан в непосредственной близости к его границам не на шутку встревожило бретонского герцога, немедленно воззвавшего к помощи своего французского сюзерена. То, то перемирию в скором времени придет конец, уже не сомневался никто, по сути своей, и англичане и французы искали красиво выглядящий повод, чтобы возобновить военные действия, одни – чтобы окончательно вытеснить врага со своей земли, другие – чтобы вернуть себе потерянное за последние годы. Пока же, никто не желал выглядеть в глазах других государей агрессором, и потому по настоянию французского короля в сентябре 1448 года в Лувье должен был открыться новый раунд англо-французских переговоров[40].
Пользуясь тем небольшим временем, которое еще оставалось до начала военных действий, Карл Французский спешил разобраться хотя бы с церковными делами. Посему, уже в начале лета 1448 года Бастард был спешно вытребован ко двору. Королевский совет единодушным решением постановил поручиться перед антипапой Феликсом, что в скором времени из Рима будут получены три буллы: первая – снимающая с него и его приверженцев все анафемы и проклятия, вторая – подтверждающая все его назначения, и наконец, последняя – узаконивающая все, подписанные им постановления. Больших уступок раскольнику ожидать было невозможно. В начале сентября все того же 1448 года Бастард с этой бумагой, в сопровождении Жака Кера и Жана ле Бурсье отправился в Женеву, на встречу с послами нескольких европейских государств, а затем – в Лозанну, где его ожидал антипапа Феликс. Из раза в раз Бастарду приходилось скакать из Лозанны в Женеву и обратно, с бесконечным терпением ведя пустые переговоры и ни к чему не приводящие словопрения с увертливым итальянцем. Впрочем, антипапе также приходилось туго: за прошедшие годы Бастард вдосталь сумел выучить правила итальянской дипломатии, и посему вся хитрость и изворотливость савойца буквально разбивалась о спокойную и вежливую непреклонность французского посла.
За этими хлопотами наступал новый 1449 год. Графиня Мария, в отсутствии супруга неусыпно бдившая за тем, как идет ремонт разрушенной церкви Нотр-Дам-де-Клери, постоянно уведомляла супруга о ходе работ. Из ее писем мы знаем, что 24 февраля нового 1449 года, двое торговцев перед нотариусом графства обязались «обшить неф сказанной церкви по всей длине таковой а также по периметру таковой должным к тому образом сухим дубом весьма доброго торгового качества, упрочив таковую посредством гвоздей и креплений поверх таковой обшивки. Засим же изготовить деревянную же дверь, туда, где размешено будет помещение, сделанное также из дерева весьма удобным и добрым к тому образом». Надо сказать, что по неясным причинам, второй пункт плана останется на бумаге, зато в полной мере будет воплощен план Пьера Шове, задумавшего заново выстроить северный придел, «где располагается икона Божьей Матери желтого цвета». Этот придел именовался также «свечным», т.к. здесь нашли себе место лавки и лавочки торговцев свечами, иконками, четками и прочими «товарами благочестивого свойства»[41].
Восстановление церковного единства и нарушение англичанами перемирия
|
Между тем, бесконечные переговоры с антипапой все не желали заканчиваться, к уговорам и обещаниям Бастарда добавились доводы его верных соратников — Кера, Эли де Помпадура, и наконец, Жювеналя дез Юрсена, незадолго до того получившего сан патриарха Антиохийского. Наконец, после двух лет (!!!) напряженных переговоров цель наконец-то была достигнута. 4 апреля 1449 года герцог Амадей Савойский (он же антипапа Феликс) наконец-то подписал отречение, тем самым уже навсегда прекратив Великий Западный Раскол. Все бумаги были переданы послам иностранных государств и папскому нунцию — декану Толедской церкви, клятвенно подтвердившем, что все три буллы, ранее обещанные Феликсу Савойскому окажутся у него в руках не позднее июля [42]. Торжествующий король немедленно отправил в Рим делегацию, с целью добиться у папы Николая искомых трех булл, а также ратифицировать уже заключенное соглашение.
Бастард, как обычно не забывавших об интересах семьи, а также о чаяниях старшего брата, во время последней встречи добился от антипапы Феликса — точнее, теперь уже от герцога Савойского Амадея — тайного согласия совместно с орлеанским домом действовать против миланцев. В случае удачи, завоеванное герцогство должно было быть поделено на две части, отходившие, соответственно савойцам и орлеанцам. Надо сказать, что договор этот останется мертвой буквой, так как изворотливый Сфорца в скором времени сумеет добиться своего избрания герцогом Миланским, а затем и вовсе нейтрализует савойцев, посредством очередного договора выведя их из игры. Впрочем, Бастард, как мы помним, достаточно прохладно относился к Италии, так что столь крутой поворот вряд ли стал для него неожиданным. А в данный момент его и вовсе с головой поглотили английские дела.
Между тем католический мир торжествовал, французского короля чествовали как миротворца, и верного сына церкви. Папское бреве от 15 мая 1449 года пело ему хвалу:
| |
Посредством знамения милости Господней, явленной нам, [вы], христианнейший принц и вместе с вами Святой Престол и весь мир христианский отныне преисполнены радости, ибо вследствие святого и славного деяния вашего, повержена была схизма столь пагубная…
Победа столь великая причиной на то имеет благочестие ваше. Ибо христианнейшие короли Франции столь часто вступали в сражение противу врагов истинной веры, преисполненные решимости принять славную смерть во имя Христово, и столь великое множество раз отражали от Святого Престола удары, направленные против такового яростью и тиранией, каковые ему угрожали, понеся на службе миру и единству католической церкви, великие тяготы, и лишения, и потери. Сердце наше преисполнено сознания, что воздаяние наше ни в коей мере не достаточно, чтобы вернуть вам долг благодарности, но примите же в знак такового едино благодарность нашу, что нам представляется единственно возможным способом вам отплатить за благодеяние, величие какового нас поражает до глубины души. Ну что же! Мы повторяем и объявляем вновь, что Величие Ваше ничем не уступает (величию) христианнейших королей, предков ваших… |
|
Впрочем, папская благодарность имела под собой и весьма ощутимую для королевства материальную и моральную выгоду. Во-первых, стоит заметить, что за все время своего понтификата, ни сам папа Николай, ни его преемники так и не рискнут отменить Прагматическую Санкцию, столь убыточную для папского престола, сколь выгодную для Франции. Кроме того, в 1552 году папа Каликст III также вынужден будет во всем следовать воле Карла Французского, начавшего оправдательный процесс той, что принесла ему корону Франции, несмотря на то, что прямое или косвенное осуждение католического епископа накладывало несмываемое пятно позора на церковь как таковую, чем уже в Новое Время не преминут воспользоваться ее враги. Но так или иначе, дело было сделано.
Из Рима граф Дюнуа вернулся обласканным и польщенным пышным приемом, везя с собой также весьма ощутимую папскую благодарность: в течение десяти следующих лет аббатству Божанси (также изрядно ограбленному и разрушенному в результате военных действий), соизволялось своей властью даровать «великое отпущение грехов» прихожанам обоего пола, явившимся поклониться местным святыням во время Празднества Вознесения Господня. Надо сказать, что подобное постановление должно было принести аббатству весьма ощутимые деньги, так как паломники в таких случаях не скупились на подношения. Кортеж послов медленно двигался через территорию Италии и Франции, причем в каждом городе его ждал пышный прием и череда пиров и празднеств, устраивавшихся местными властями в честь столь долгожданного события[43].
Между тем, в Разильи, где расположился вечно кочующий французский двор, их ожидали скверные новости. Воспользовавшись фактором полной неожиданности и беспечностью гарнизона, 24 англичане ворвались в Фужер — крупную крепость, находившуюся в подчинении у герцога Бретонского. Подобная выходка смотрелась в особенности неуместно и нагло, так как французский король (по крайней мере, с первого взгляда) по-прежнему пытался добиться заключения прочного мира. 7 февраля 1449 года Герольд Берри, в будущем автор известной хроники и любопытных записок о своих многочисленных путешествиях, — вновь отправился в Лондон, но не сумел добиться ничего, кроме очередных туманных обещаний. Уже знакомый нам Гильом Кузино, наместник герцога Орлеанского, направился в Руан, к английскому коллеге герцогу Сомерсету, впрочем, по вызывающему поведению последнего вскоре стало понятно, что выходка наемного отряда, захватившего Фужер, осуществлялась с полного согласия и одобрения английской стороны.
Как станет понятно уже позднейшим историкам, англичане подобным образом пытались напугать и заставить пойти на попятную вечно сомневающегося бретонца, в данный момент положившего для себя лучшим присягнуть на верность французской короне. Английские послы в Разильи, буквально прижатые к стенке неудобными вопросами, изначально попытались дипломатично вывернуться, затем, когда попытка эта провалилась, принялись откровенно дерзить, советуя французскому монарху «присматривать за своими крепостями наилучшим к тому образом». Сомерсет, как видно, успевший войти во вкус и полностью поверить в собственную безнаказанность, двинул войска против Ферте-Бернар и Дрё, однако, новая выходка не сошла захватчикам с рук. Бретонская армия неожиданно дала им резкий отпор, 16 мая подобным же неожиданным образом захватив в свои руки Конш в Нормандии, Пон-де-л’Арш и Герберуа. Получив сей холодный душ, Сомерсет запоздало понял, что хватил через край, и поспешил к противнику очередное посольство, добившееся только ответа, что все произошедшее было ответом за крепость Фужер. Именно в это время граф Дюнуа во главе своих людей прибыл ко двору, в спешке и гонке ему удалось буквально на несколько дней повидаться с родными, и поздравить старшего брата с рождением дочери (кстати говоря, ее воспреемницей от купели стала графиня де Дюнуа, и в честь нее же новорожденная также получила имя Мария). События не ждали, и уже 9 июня наш герой вновь пустился в путь: чтобы уже 9 июня оказаться в Разильи, где его давно ожидал Карл Французский[44].
Впрочем, при дворе ему придется задержаться весьма ненадолго: по приказу короля, уже 8 днями позднее вместе с адмиралом Франции де Коэтиви, Этьеном Шевалье и прочими представителями очередного посольства, он уже в Бретани, где с герцогом Франциском и коннетаблем Ришмоном подписывается очередной договор о военном союзе. Англичане предупреждены, что если до 31 июля текущего года, они не покинут Фужер, военные действия будут возобновлены. Благополучно выполнив свою миссию посольство возвращается к королю, который в то же время, желая нейтрализовать своих скользких «союзников», запрещает сыну покидать Дофине, в то время как к герцогу Бургундскому направляется очередное посольство, чтобы во-первых исподволь выведать о его намерениях касательно будущих военных действий, во-вторых, обсудить с ним последние события. Польщенный подобным вниманием бургундец, спешит объявить о своем нейтралитете (ссылаясь на давние соглашения с английской стороной). Результат неплох — по крайней мере, с этой стороны ожидать удара в спину не приходится, и в то же время герцог Филипп вполне дельно советует перед возобновлением военных действий выслушать мнение высших сановников короны и принцев крови. 17 июля блестящее собрание открывается в замке Рош-Траншелион, по соседству с Шиноном. Рядом с королем, как ему и следует по должности, за столом сидит граф Дюнуа.
Время Бастарда
Освобождение Нормандии
Конец перемирия
|
Как известно, в хорошей политике главное — повод, который красиво выглядит. Вот и в данном случае, хотя шаткое перемирие нарушалось и той и другой стороной (на что французский король, чувствуя себя все еще недостаточно подготовленным, предпочитал благополучно закрывать глаза), сейчас он воспользовался возможностью, которую герцог Сомерсет любезно ему предоставил. Королевские юристы с документами в руках без всяких усилий подтвердили наследственные права французского монарха на земли, до сих пор «незаконно» удерживаемые Ланкастерами, щедро ими розданные как принцам крови, так и простым капитанам, выслужившимся во время бесконечной войны. Прения надолго не затянулись — и вот уже королевские советники единодушно высказались за возобновление войны и возвращение захваченного «в соответствии с клятвой, данной [сувереном] при коронации». Удовлетворенный столь дружной поддержкой, король немедленно продиктовал письмо, со всей куртуазностью уведомлявшее английского монарха, что его французский собрат «во имя чести объявляет о намерении своем положить конец перемирию».
«Генеральным капитаном» (или говоря современным языком — главнокомандующим войсками, «с правом отдавать приказы принцам крови» а также наместнком всех земель «между Соммой и Уазой вплоть до моря», был назначен, как вы уже догадались, читатель, никто иной как наш Бастард[45]. Надо сказать, что при всем показном миролюбии, наступление готовилось исподволь, Жак Кер, этот вездесущий политик и финансист исподволь копил деньги и обеспечивал армию провизией, вооружением и фуражом, провинции королевства были обложены чрезвычайным военным налогом, принесшим уже в сентябре того же года 240 тыс. ливров собранных в Северной Франции, и 170 тыс. ливров в Южной. Посланники английской короны, запоздало понявшие, что слишком далеко зашли, пытались как могли потянуть время и требовали новых переговоров, однако, французская сторона ответила категоричным отказом. 19 июля новая армия под командованием графа де Дюнуа и подчиненного ему Ришмона[46], постаревшего, но все еще энергичного и деятельного — выдвинулась на защиту бретонской границы. Разумный шаг — с одной стороны (как открыто возглашалось), армия должна была надежно защитить мирных жителей от возможной агрессии со стороны англичан, пожелай те отплатить за свое поражение, с другой, молодой герцог Франциск, сын уже покойного Жана V, должен был находиться под постоянным присмотром, чтобы у него не возникло соблазна переметнуться на сторону врага.
Чтобы понять, каким образом «молниеносная» операция Дюнуа в Нормандии прошла столь легко и почти бескровно, что современникам это казалось едва ли не чудом, стоит вернуться несколько назад. Норманны — «северные люди» — прямые потомки скандинавских завоевателей, осевшие на этой земле под началом своего герцога Роллона (напомним, что к этому роду принадлежала и супруга нашего Бастарда!), формально подчинявшиеся французским королям, в течение многих столетий сохраняли и свой независимый дух и свои, подтвержденные королевскими хартиями «вольности». Из этих мест был родом Вильгельм Завоеватель, принесший в Англию французский язык, французские обычаи и ненасытное желание объединить короны обеих стран — что в последующие за тем века вызвало немало бедствий. Из всех французских земель Нормандия дольше других сохраняли свои древние «вольности», по сути, балансируя между двумя государствами, и раз за разом выторговывая для себя у тех и у других наилучшие условия. Англичане благоволили нормандской торговле, чтобы этот богатый край окончательно не переметнулся на сторону французов, в то время как французские короли опасались слишком сильно задевать местные интересы, чтобы нормандцы не открыли ворота своих крепостей перед англичанами.
Однако, времена обособленности и возможности выжить в одиночку для небольшой по величине провинции постепенно оставались в прошлом, и регенты при особе малолетнего в те времена Карла VI — отца ныне царствующего монарха, развернули решительное наступление против местных «вольностей» — и прежде всего т. н. «Нормандской хартии», обеспечивавшей свободу местной столицы. Придравшись к тому, что в ответ на попытку ввести очередной налог в Руане вспыхнул стихийный мятеж (т. н. «Арель» — подавленная в течение буквально следующих трех дней), королевские дяди буквально ограбили город до нитки: ворота были сломаны, колокола — символ городских вольностей — сброшены вниз, «Нормандская хартия» аннулирована, а горожане обложены тяжелейшим штрафом. Так что нет ничего удивительного, что в условиях практического развала французской государственности, где закон повсеместно уступил свое первенство праву сильного, норманцы с готовностью отдались под власть английского короля. Нет, справедливости ради следует сказать, что гарнизоны во многих крепостях оказывали упорное сопротивление Генриху V, который, возмущенный подобным поведением своих «подданных» также не преминул обложить их тяжелым штрафом. Но завоевание закончилось, и страна успокоилась под властью английского короля, а позднее — его дальновидного брата герцога Бедфордского.
Попросту говоря, нормандцы, как это часто бывает, надеялись, что новый господин окажется сговорчивей старого и жить под его властью будет спокойнее и сытнее. Надо сказать, что порой подобные надежды себя оправдывали — завоеватель, желая расположить к себе вновь покоренный народ, одаривал его привилегиями и вольностями — но не на этот раз. Война требовала денег, денег и еще раз денег, островная казна была просто не в состоянии вынести расходы на бесконечные операции на континенте, становившиеся со временем все более и более дорогостоящими, в то время как в глазах английского обывателя, бесконечно тянущийся конфликт, при том, что сопротивление французов подавить не удавалось никакими усилиями, становился все более непопулярным. Посему, средства приходилось добывать на континенте, так как с завоеванной страной особо церемониться не приходилось. Согласно сохранившимся документам, уже знакомый нам Пьер Кошон — судья и палач Жанны, а по совместительству налоговый инспектор английской короны в Нормандии, требовал с подчиненных ему городов и монастырей двойные и даже тройные ставки налогов. Более того, английская солдатня вела себя в высшей степени разнузданно, грабя, отказываясь платить в тавернах за съеденное и выпитое, оскорбляя женщин — при том, что конец подобным злоупотреблениям положить не удавалось никакими силами.
Современные историки сходятся в том, что Ланкастеры в Нормандии проиграли не только (и не столько) на поле боя, но именно в том, что не сумели заставить местное население смириться со своей властью. Запоздало осознав, что попали из огня в полымя, нормандцы поднялись на борьбу. Партизанское движение в пользу французского короля приняло такой размах, что англичане в буквальном смысле не могли высунуть носа за крепостные стены, не опасаясь быть убитыми, похищенными, ограбленными до нитки. Тома Базен, хронист Нормандии сохранил для нас характерный анекдот того времени, согласно которому несколько английских военачальников в доверительной беседе с неким клириком (как видно, Базен имел в виду самого себя), жаловались, что не в состоянии найти управу на нормандских партизан-«тюшенов», и просили совета, как им следует поступить, чтобы одержать верх в подобной изматывающей борьбе. Клирик, как рассказывает Базен, вначале отказывался отвечать, ссылаясь на свой сан, и наконец, решившись, выдал сдобренный юмором ответ: англичанам следует убраться на свои острова, после чего сопротивление им исчезнет само собой!
Первые победы
|
Итак, нормандская кампания началась быстрой, однако не слишком славной победой. Уже 20 июля по приказу Дюнуа, Брезе и Жак Клермон взяли в плотную осаду вернейский замок, в то время как основная часть войска под непосредственным командованием Бастарда, оцепила город. Осада не продлилась долго: некий англичанин, предпочитавший вовремя оказаться на стороне победителя, отдал Пьеру де Брезе ключи от одной из потерн города Вернея. Тальбот, слишком поздно попытавшийся прийти на помощь, оказался один на один с армией Бастарда, против которой мог выставить едва лишь горстку солдат. Этому англичанину, которому исполнилось без малого 77 лет, поседевшему на войне, храбрости было не занимать, однако, трезвомыслием он также не был обделен. Столкнуться с Бастардом в чистом поле, не имея практически ни единого шанса на победу было бы не доблестью а безумием. Посему, уклонившись от боя, (тем более, что старый лис быстро распознал обходный маневр графа Дюнуа, попытавшегося загнать его в окружение)[47] он предпочел отступить в Бомон-ле-Роже, но опять же, вынужденный отрываться от французских преследователей, гнавшихся за ним буквально по пятам, 31 июля отступил в почти неприступный Руан, где и заперся в ожидании осады.
Что касается Бастарда, он, ожидая пока из Пикардии подтянуться войска под командованием графов де Сен-Поля и д‘Э, сравнял с землей принадлежавший Тальботу замок в Ложампре, и остановился в местечке Пон л‘Евек, с тех времен и посейчас славящемся своим великолепным сыром. Здесь французы встретили праздник Рождества Пресвятой Богородицы (8 сентября), и здесь же Бастард положил дождаться короля Карла, который 6 августа выступил из Шинона во главе небольшой, но хорошо обученной армии (336). Надо сказать, что 15 августа Пон л‘Евек добровольно открыл ворота французам. В этот же день открыл ворота Пон-Одемер, 16 августа Лизье также сдался на милость французов, причем немалую заслугу в этом им оказал уже известный нам Тома Базен, уговоривший гарнизон сложить оружие[48]. Пьеру Кошону, бывшему епископу этого города, уже не случилось пережить подобную потерю. Семью годами раньше он тихо скончался в Руане от апоплексического удара, прямо в тот момент, когда епископский цирюльник разводил в своем тазике мыльную воду для бритья. Смерть избавила Кошона от позора и тюрьмы, хотя — с точки зрения людей XV века столь внезапная кончина — без причащения и покаяния сулила епископской душе прямое попадание в адский котел. Но не будем углубляться в дебри богословия.
Не привыкший долго оставаться без дела, граф де Дюнуа отправил отряды на покорение Фалеза и Кана, в то время как сам предпринял короткий поход в направлении Вернона и Манта, и вверг солдат в обоих городах в такой неодолимый ужас своими военными демонстрациями, что в 26 августа Вернон покорился 26 августа, в то время как Мант, несколько неразумно решив ответить на предложение капитуляции прямой издевкой, направил к нему герольда с насквозь проржавевшими ключами. Взбешенный Дюнуа приказал атаковать, и двумя днями позднее город был уже у него в руках[47]. Карл Французский, вдоволь посмеявшись над подобной историей, наградил своего верного главнокомандующего 73 мюидами (ок. 20 тыс. тоннами) отборной белой соли — в те времена исключительно ходкого и очень дорогого товара.
Возникал вопрос, следует ли далее развивать наступление на Нижнюю Нормандию, или будет более разумным повернуть назад, чтобы окончательно зачистить от англичан бассейн реки Сены. По совету вездесущего Базена, граф де Дюнуа выбрал первый путь, однако, прежде чем начинать новое наступление, следовало дождаться для того разрешения короля. Чтобы поскорее получить таковое, посланники нашего Бастарда де Гокур и де Кюлан поспешили к королю в Шартр, откуда вернулись с искомым разрешением и приказом короля главнокомандующему немедленно прибыть на военный совет в Лувье [47].
30 августа в этом городе в согласии с планом нашего героя, постановил выбить врага из Нижней Нормандии, и далее, оставив за своей спиной прочный тыл, подступить с осадой к Руану. Предложение было принято, после чего он отправил графов де Сен-Поля и д’Э на завоевание мелких укрепленных бургов (причем немалую помощь их оказывали местные крестьяне, с тыла нападавшие на английские отряды, и вырезавшие их до последнего солдата, так, что битва за Нормандию превращалась для завоевателей в настоящую гекатомбу). 2 сентября 1449 года под натиском французов пал Гурне, в скором времени вся «земля именуемая Бре» была полностью очищена от захватчиков.
Сам Дюнуа и Брезе, соединив свои силы, переправились через Сену, и 14 сентября 1449 года вошли в Аркур. В этом городе, бывшем наследственным владением в роду его супруги, Дюнуа озаботился тем, чтобы дать в ее честь роскошный пир, на котором в роли почетного гостя выступал его соратник по оружию и закадычный друг — Пьер де Брезе, после чего старший брат Марии (возможно, в благодарность, или потому, что у него просто не было благовидного предлога поступить иначе), полностью выплатил полагающееся за ней приданое.
Между тем, война продолжалась, французские войска без особых усилий заняли Аржентан, Шамбре и Эксм, передовые разъезды французской конницы уже появлялись время от времени в окрестностях Пон-де- л‘Арш, в непосредственной близости к нормандской столице. Герцог Алансонский во главе собственного небольшого отряда занял Сеес и наконец-то отбил у врага свою собственную, давно потерянную столицу. В это же время 10-тысячная армия Ришмона, состоявшая в основном из солдат-бретонцев, подчинила себе Гравилль, Сен-Ло, Карантан, Валонь, 4 ноября 1449 года стараниями коннетабля к французам вернулся Фужер, и наконец, в ноябре 1449 года бретонцы расположились на зимние квартиры в Партене (впрочем, иногда полагают, что причиной тому стала начавшаяся в бретонском войске эпидемия)[49].
Руан возвращается под власть французской короны
|
Дюнуа, в свою очередь, не собирался терять времени. Перед ним лежал Руан – «вторая столица королевства». Город сильно укрепленный, в прежние времена считавшийся неприступным, и сейчас Тальбот надеялся отсидеться в нем до прихода королевских войск, или – на крайний случай – заставить французов обильно полить кровью городские валы. Но, как известно, «человек предполагает...»
Пока же вернемся несколько назад. В начале октября 1449 года король в сопровождении отрядов Рене Анжуйского, графов Клермонского и Мэнского, а также графа де Танкарвилля (шурина Жана Орлеанского), 16 октября вплотную подошел к Руану, герцогу Сомерсету и Тальботу был отправлен ультиматум, ввиду того, что ответ задерживался, вслед за первым герольдом был отправлен второй, с новым посланием. Англичане продолжали отмалчиваться.
Перед началом наступления благосклонный король через посредство Жака Кера прислал своему главнокомандующему в дар боевого коня, впрочем, Дюнуа под благовидным предлогом отклонил подобную милость, признаваясь в письме к супруге (от 4 ноября 1449 года), что отправленное к нему животное «никуда не годилось». Кроме того, в очередном послании король доверительно советовал своему главнокомандующему по окончании операции обязательно прибыть в Пон де л’Арш, чтобы присутствовать на торжественном въезде суверена в Руан, причем церемония эта должна была пышностью своей не уступать парижской.
Итак, французские разъезды появились в непосредственной близости к столице Нормандии, 16 октября Жану Орлеанскому удалось не без усилий, занять городские предместья, при том, что адмирал Франции де Кюлан и маршал де Валонь попытались в качестве разведки боем атаковать слабо защищенные ворота Бонвуазин. Атака была отбита, но положение англичан от этого не улучшилось.
Как переменились времена!... Чуть больше двадцати лет лет назад здесь, на площади Старого Рынка пылала факелом Жанна д’Арк, в то время как руанцы безучастно смотрели на это действо, или того лучше, посылали проклятья «арманьякской шлюхе». Сейчас же население заранее ликовало в ожидании освободителей. В тот же день в городе наспех сложился заговор, участники которого собирались открыть французам ворота Сент-Илер, однако, неумелых конспираторов разоблачили и отправили на плаху. Но англичан это не спасло: вслед за казнью, уже на следующее утро, в городе вспыхнул бунт, вооруженные кто и чем придется горожане буквально опрокинули немногочисленный английский гарнизон[49], после чего к главнокомандующему французской армией – графу де Дюнуа, отправлена была представительная делегация под руководством одного из высших городских чиновников Ришара Оливье, который, с почетом приняв их в своем лагере у ворот Сент-Уэн, от имени короля обещал руанцам полное прощение. Метод, столь безотказно сработавший в Париже, и сейчас сделал свое дело, 19 октября город полностью перешел под власть французов.
Руанцы ликовали, однако, остатки английского гарнизона, запершись в епископском дворце, в замке, в мостовом барбакане продолжали сопротивление в течение еще нескольких дней. Впрочем, это время также не прошло даром: Бастард и его добрый друг Пьер де Брезе успели за это время занять сильно упрепленный форт Св. Катерины, охраняший подступы к городу с другой стороны стены, и окончательно отрезать Сомерсету и его людям возможность отступления через ворота Мантенвилль. Впрочем, ситуацию удалось урегулировать дипломатическими методами – за 50 тыс. золотых экю 29 октября 1449 года[49] английский регент Нормандии Сомерсет уступил своим противникам не только столицу герцогства, но Кодбек, Арк, Онфлер, Лилльбон, Монтивилье и Танкарвиль; в качестве заложников в подтверждение их доброй воли, в лагере Бастарда остались Тальбот, сир д’Ормон и еще несколько знатных военачальников. 33 года спустя, после победы молодого Генриха V Нормандия навсегда вернулась под власть французского суверена. На соответствующем договоре, сохранившемся до наших дней, рядом с прочими, красуется подпись графа Дюнуа, официально именуемого «дядей английского монарха»[50].
Король въезжает в столицу Нормандии
|
10 ноября 1449 года король Франции Карл VII торжественно въехал в город. Надеюсь, вы не думаете, дорогой читатель, что пропаганда есть порождение нашего времени?... Напротив, она существует столько же, сколько государство как таковое: другое дело, что в прежние эпохи, за неимением радио, телевидения и тому подобных технических достижений, «правильные» мысли подданным внушали королевские глашатаи на площадях и епископы с церковных кафедр. И вот, пораженные до немоты руанцы, которым английская пропаганда услужливо рисовала французского монарха нищим, увенчанным едва ли не шутовской короной, трусливо прячущимся от победоносной английской армии, видели сейчас могущественного властителя «в белоснежном доспехе», в шапероне из пышного меха серого бобра, с подкладкой из алого сатина, с кистями из шелковых и золотых нитей[50], украшенном брошью с бриллиантом, чей размер мог соперничать с куриным яйцом, причем тусклое осеннее солнце заставляло камень переливаться всеми цветами радуги, отбрасывая веселые блики вокруг себя. Пышная мантия – лазурного цвета, сплошь усыпанная золотыми королевскими лилиями, вольготно лежала на крупе белоснежного коня, грациозно перебирающего тонкими ногами под таким же лазурным чепраком, украшенным золотыми лилиями, и свешивавшемся почти до земли, над головой монарха поднимался балдахин из алой сатиновой ткани, поддерживаемый четырьмя горожанами, удостоенными особой чести. Четверо пажей торжественно несли перед собой личное оружие монарха: длинное копье, дротик, и арбалет. Монарха окружали многочисленные принцы крови и высшие сановники, каждый, разумеется, во главе собственной свиты, разодетой в пух и прах, сверкающей драгоценными камнями и золотом – королевский оркестр, герольды, военачальники.
Что касается немоты – в этом случае, дорогой читатель, речь идет не о красивой речевой фигуре. У архиепископа руанского, троих епископов (Лизье, Кутанса и Байё) а целой толпы аббатов важнейших церквей а также 200 представителей высшего городского эшелона, наспех вырядившихся в королевские цвета, приветствовавших своего монарха у ворот Бонвуазин, от волнения, что называется язык прилип к гортани, и вся эта толпа в буквальном смысле не могла выдавить из себя не слова, чтобы приветствовать своего нового властелина. Находчивому Бастарду пришлось срочно выручать растерявшихся руанцев. «Сир, - возвестил он с полагающимся случаю почтением – Извольте видеть перед собой руанских граждан, каковые смиренно молят вас о прощении за то, что в течение столь долгого времени медлили изъявить полагающуюся вам покорность, по причине многих хлопот своих и столь же великих притеснений, каковые творили им англичане, извечные враги ваши, а также по причине великих лишений и бедствий, каковые выпали на их долю, прежде чем они решились дать отпор англичанам, противникам вашим»[51].
Благодарные горожане, успевшие за эти несколько минут обрести дар речи, нашли нужные слова, и церемония продолжалась с подобающим случаю размахом. Король, которого находчивый кузен, позабавил и тронул до глубины души, поблагодарил его жестом, после чего обратился к оробевшим горожанам с полагающейся случаю милостивой речью. Приняв из рук Бастарда ключи от города, суверен немедленно передал их Пьеру де Брезе, который отныне получал назначение наместником нормандской столицы, верный Кузино – будущий хроникер Столетней войны и по совместительству управитель и казначей нашего Бастарда превратился отныне в бальи Руана[51].
Между тем, бесконечная процессия все продолжала тянуться. Вслед за толпой духовенства, надевшего на себя, как и полагается в подобных случаях, праздничные облачения, плотной толпой следовали лучники короля в стеганых доспехах белого, зеленого и красного цвета, первый камергер короны де Гокур на рослом коне под алым чепраком, статный красавец Пьер де Брезе, и королевский министр финансов Жак Кер – все трое для подобного случая облачились в фиалкового цвета бархат, подбитый мехом серой куницы, канцлер Жювеналь дез Юрсен на снежно-белом коне, великий оруженосец короны Потон де Сентрайль, несший на вытянутых руках королевский меч[51]. И наконец, шествие замыкали 600 дворянских отрядов под командованием адмирала Франции де Кюлана, так что всей этой кавалькаде понадобилось не менее двух часов, чтобы вступить в город, под нескончаемый звон колоколов, и победное звучание церковных хоров, воздававших традиционную хвалу Создателю.
Кортеж продолжал путь в полном соответствии с протоколом, и Бастард, надо сказать, также сумел показаться во всем блеске. Его крепкий боевой конь был покрыт алым бархатным чепраком, всадник же облачен в платье из того же материала, подбитого драгоценным мехом русского соболя, в высокой шапке из черного бархата, шитой серебром. С пояса у него свешивался меч, украшенный золотой чеканкой, на рукоятке которого красовался огромный рубин, стоимостью в 20 тыс. золотых экю[50] – подарком монарха покорителю Нормандии.
Привычная к триумфам толпа сегодня была ажиотирована много более, чем раньше – и тому была причина достаточно веского характера: впервые, вопреки всем традициям, суровую толпу рыцарей и латников, ради такого случая начистивших свои доспехи чуть ли не до зеркального блеска, возглавляла женщина. Рядом с Бастардом, конь о конь впереди процессии двигалась его супруга. В пышном платье, с волосами, выбившимися из-под дорогого чепца, раскрасневшаяся от волнения, почти хорошенькая, Мария де Дюнуа как равная принимала участие в триумфе. Ажиотированные до последней степени горожане (да что греха таить, придворные и слуги) пальцем указывали на эту пару, преклонившую колени у главного городского алтаря, и погрузившуюся в благодарственную молитву. Но какое было дело графу и графине до людских пересудов? Нормандия была родиной Марии, Руан – столицей ее сюзерена, и она могла с полным на то правом приветствовать ее освобождение после тридцати с лишним лет английской оккупации. Рядом с братом и его супругой на рослом коне двигался Жан Ангулемский, решив на сей раз отказаться от своего долгого уединения в надежде на военную славу[49]. Надо сказать, что за ходом триумфа, с чувствами понятного характера, из своей тюрьмы наблюдали английские заложники во главе с престарелым Тальботом. Впрочем, томиться в подобном положении им оставалось недолго, в скором времени за 7 тыс. золотых экю Дюнуа отпустит на свободу часть из них, как о том свидетельствует расписка, сохраняющаяся до нашего времени в Британском музее (Лондон). Утомившись столь долгой церемонией, наши герои расположились для отдыха в скромном домике неподалеку от главного нормандского собора Нотр-Дам. Впрочем, как вы уже догадались, читатель, долго отдыхать им не пришлось.
Французская армия выходит к морю
|
Война была еще далека от своего завершения. На очереди оказывался Арфлер — город-крепость, стоявший на пересечении всех крупных торговых путей этого региона, а также Онфлер — как мы помним, в согласии с соглашением должный быть отданный французам, гарнизон которого упорно отказывался уходить. Отослав прочь от опасности супругу, Бастард готовился предпринять беспрецедентную для прошлых времен зимнюю кампанию. В былые годы из раза в раз случалось, что наскоро собранные отряды вассалов короны, по истечении сорокадневного срока, к которому их обязывала присяга, спешили повернуть домой, а наемники — капризные, постоянно недовольные задержками жалования и нищенским снабжением, становились на зимние квартиры, и военные действия замирали до наступления теплого времени года. Все успело измениться с той поры. Дисциплинированные солдаты, накормленные, добротно одетые и снабженные по последнему слову тогдашней техники готовы были следовать за своим полководцем туда и когда это было нужным… воистину, Ришмон создал для своего сюзерена не просто отличную армию, но лучшую на тот момент в Европе — и захватчикам в скором времени придется испытать ее превосходство на собственной шкуре.
Пока же король, высоко ценя верность и военные умения своего главнокомандующего, распорядился наградить его очередной денежной выплатой.
| |
Монсеньору графу де Дюнуа – гласит сохранившаяся до нашего времени расписка – на сумму в 4.142 турских ливров, каковые король распорядился ему выдать кроме и сверх иных денег, каковые переданы и получены им были от сказанного сеньора, каким бы то ни было образом, дабы облегчить таковому великие труды вкупе с великим бременем расходов, на службе сказанного же сеньора по возвращению и подчинению Нормандии, страны ему принадлежащей, завоеванной ранее англичанами, в каковой он обретался с начала сказанной же кампании, вплоть до окончательного же ее подчинения. | |
Надо сказать, что почти всю эту немалую сумму, Бастард пустит на ремонт церкви в Клери и нескольких замков, находившихся под его началом.
Пока же, в 8 декабря все того же 1449 года французская армия взяла Арфлер в плотное кольцо. В распоряжении Дюнуа находилось шесть тысяч латников (внушительная военная сила по тому времени), и шестнадцать бомбард, немедленно принявшихся засыпать город дождем из каменных и чугунных ядер[52]. Жестокие холода, заставившие солдат Дюнуа ютиться в наскоро построенных соломенных хижинах и шалашах из кое-как нарубленного хвороста, не сломили между тем, их решимости. Надо сказать, что осажденным приходилось не намного проще — так что в преддверии Рождества английский капитан города Томас Ориган заговорил об условиях почетной капитуляции. Однако, Бастард, со времен осады Орлеана, возненавидевший захватчиков всеми фибрами души, был настроен более чем категорично — капитуляция без всяких условий; и только уговоры его собственных младших командиров, указывавших на то, что войска жестоко страдают от холода, и лучше позволить англичанам спокойно убраться восвояси, чем потерять сотни человек больными и обмороженными — сделали свое дело. Жан де Дюнуа смягчился настолько, чтобы позволить англичанам уйти прочь вместе с оружием и имуществом «сколь каждый из них сможет на себе унести», не позднее 2 января следующего 1450 года, оставив в знак своей доброй воли восьмерых знатных заложников.
Итак, в первый день Нового Года, ключи от города, портовых сооружений и башен были торжественно переданы французскому главнокомандующему, в то время как 2-тысячный английский гарнизон и те немногие французы, что решились остаться верными своим островным хозяевам, беспрепятственно погрузились на корабли, лазурное знамя с королевскими лилиями взметнулось ввысь на шпиле городского собора.
16 января нового, 1450 года, наш Бастард удостоился очередного дара: графство Лонгевилль отныне становилось наследственным владением его самого и его потомков. Забегая вперед, отметим, что оно останется в их владении до полного угасания рода, что случится в конце XVII столетия.
| |
Памятуя об услугах, каковые дражайший и возлюбленнейший наш кузен, Жан, Бастард Орлеанский, граф де Дюнуа и великий камергер короны нам оказывал и продолжает оказывать вплоть до нынешнего времени – писал король – каковыми он неизменно нас поддерживал и сопутствовал нам, как во время войн наших против извечных же врагов и соперников наших, во множестве походов и сражений, от времени юности своей, едва лишь он научился сидеть в седле и носить оружие, неизменно выделялся великим прилежанием, умением, и старанием, направив все усилия свои на возвращение нам верховной власти... в каковом деле он проявил весьма великое тщание, ввергая тем себя в великую опасность, и близость смерти, терпя ради того великие лишения и тяготы, и для того не щадя ни достояния ни вооруженной силы, ни самого тела своего... и посему достоин за то великой награды. | |
Смерть королевской фаворитки. Последнее наступление англичан на севере
|
Между тем Карла VII, остановился в аббатстве Жюмьеж, куда, неожиданно для всех вдруг прибыла его многолетняя фаворитка Агнесса Сорель, совершенно больная, с огромным округлившимся животом, который вполне ясно давал понять, что роды уже не за горами. О чем беседовали за плотно закрытыми дверями король и его дама сердца навсегда осталось тайной. Предполагают, что причиной ее визита послужили слухи об очередном заговоре, который готовил против отца нетерпеливый наследник короны — однако, — все это остается на уровне гаданий. Так или иначе, остановившись в поместье дю Месниль — загородной резиденции жюмьежских аббатов, Агнесса в скором времени разрешилась от бремени дочерью, уже четвертым по счету ребенком, подаренным ей королю, и вскоре после того 9 февраля нового, 1450 года, она неожиданно для всех скончалась, в возрасте 28 лет.
Эта скоропостижная гибель молодой и полной сил женщины, вызвала неизбежные толки среди придворных и простого люда — шептались о яде, чуть ли не напрямую указывая на дофина, который в самом деле, на дух не переносил фаворитку отца и надо сказать, нелюбовь между ними была взаимной. Шептались, будто лисенок не без причины опасался, что под влиянием возлюбленной, которой он в буквальном смысле ни в чем не мог отказать, стареющий король лишит наследства старшего сына. По прошествии пяти столетий уже сложно сказать, что в подобных соображениях было выдумкой и что правдой, (современные исследователи склонны полагать, что причиной смерти королевской фаворитки была дизентерия — настоящий бич тогдашних армий), но так или иначе, эта неожиданная смерть ознаменует собой крутой поворот во французской политике.
Впрочем, наш герой не имеет ни малейшего представления о грядущих последствиях. Пока что, следующей целью оказывается Онфлер (как мы помним, купленном у англичан за кругленькую сумму в 50 тыс. золотых экю), который упорно отказывается сдаваться. Впрочем, и здесь французам сопутствует удача, город захвачен 18 февраля (шестью месяцами спустя король пожалует Бастарду должность военного капитана города), после чего Жан Орлеанский со своими солдатами выступает в новый поход с целью освободить от англичан малые крепости, в немалом количестве рассыпанные по земле Верхней Нормандии.
В это же время, несколько утешившись после своей потери, король задумывается о том, чтобы вернуть доброе имя другой женщине: той самой, что 20 лет назад подарила ему корону Франции, а заодно уже навсегда юридически утвердить за собой права на страну, опровергнув клевету, будто коронацией своей он обязан ведьме. Подготовка к Оправдательному Процессу начата, пока это происходит негласно, без привлечения всеобщего внимания. Королевский «комиссарий» Гильом Булье получает приказ начать сбор необходимых доказательств, королевское письмо, облачающее его соответствующими полномочиями, недвусмысленно дает понять, что «во время процесса этого ими (то есть Кошоном и его подручными), допущено и совершено было множество ошибок и злоупотреблений, посему же она (то есть Жанна — прим. переводчика) понуждена была закончить жестокой смертью против всех законов и доводов разума…» Правильно истолковав желание своего господина, Булье начинает с негласного допроса семи свидетелей процесса.
Среди них — заседатели, присутствовавшие во время допроса, судебные исполнители и прочие мелкие сошки, а также Мартин Ладвеню, «чрезвычайный исповедник и духовный проводник Девы в последние дни ее». Эта находка действительно представляет собой для будущего оправдания достаточную ценность; но пока все еще в будущем. На данный момент, для гласного начала расследования требуется согласие св. Престола, с чем возникают определенные проблемы. Дело в том, что новому папе, еще нетвердо чувствующему себя на троне Св. Петра во-первых, очень не хочется злить могущественную английскую нацию, во-вторых, осуждение Кошона (без чего процесс завершиться не может!) покроет католическую церковь таким позором, что отмыться от него будет делом далеко нешуточным. Надо сказать, что проницательный папа в последнем вопросе не ошибается, посему, чтобы его уломать придется потратить значительные дипломатические усилия[53].
Пока же война продолжается, и французские войска под командованием Дюнуа движутся в сторону мыса Ко. Их сопровождают незаменимые братья Бюро во главе устрашающего вида артиллерийского парка из пушек, бомбард и кулеврин, а также недавно взятые на королевскую службу опытные генуэзские артиллеристы. Угроза нешуточна — разведка только что донесла Бастарду, что английский капитан Кириел не то уже высадился у мыса Ко, не то собирается это сделать. В далеком будущем здесь вырастет порт Гавр; но вернувшись в XV век отметим, что разведчики Бастарда не ошиблись, и Кириел, получив дополнительные подкрепления оружием и людьми в Шербуре, готовится ни много ни мало — вернуть Руан под английское владычество. Конечно же, за попыткой реванша стоял ни кто иной как герцог Глостерский — глава английского правительства после смерти Джона Бедфорда, никак не желавший смириться с мыслью, что война проиграна бесповоротно. Для того, чтобы новое вторжение стало реальностью, король Генрих VI вынужден был заложить у ростовщиков драгоценности короны. Современные историки назовут этот плохо подготовленный демарш «жестом отчаяния», однако с точки зрения людей того времени угроза была нешуточной — англичане все еще представляли собой достаточно грозную силу.
Триумфальное окончание нормандской кампании
|
Не теряя времени, Дюнуа отправил против Кириела своего зятя — графа Клермонского (одновременно получившего должность наместника Нижней Нормандии, в то время как сам, во главе своей армии выступил против Байё, откуда к англичанам могли прийти дополнительные подкрепления. Ришмону, в город Динан (в Бретани), полетел приказ немедленно собирать войска и также выступать на помощь Клермонскому графу [54]). Надо сказать, что этот последний (чьи войска дополнили отряды из Перша и вспомогательные войска под командованием графа Э) не любил авантюр и ставке на непрочную воинскую удачу предпочитал основательную подготовку и трезвый расчет. Впрочем, в этот раз медлительность могла его подвести, так как вовремя упрежденный Кириел успел закрепиться в осадном лагере между Карантаном и Байё, неподалеку от городка Форминьи. Огородившись вагенбургом, и плотным частоколом из заостренных кольев, оказавшем столь добрую службу англичанам при Азенкуре и Креси, он спокойно ждал подхода обещанного подкрепления от герцога Сомерсетского, в то время как французский военачальник, изрядно переволновавшись тем, что бретонские отряды под командованием коннетабля по непонятной причине задерживаются, решился все же дать приказ к наступлению. Надо сказать, что первая конная сшибка решилась не в пользу французов, хотя дело в скором времени исправила находчивость Пьера де Брезе, неожиданно ударившего англичанам во фланг, там где располагался отряд Мэттью Гоу. Прямо во время сечи, на поле боя сложилась полуанекдотичная ситуация, когда клубы пыли, неожиданно появившиеся на горизонте от копыт 2-х тысячного конного отряда[55]), каждая из сторон истолковала в благоприятную для себя сторону. В этом, скажем так, ментальном поединке, победу одержали французы, так как едва пыль улеглась, в воздухе стали видны бретонские штандарты, а впереди наступавших войск двигался собственной персоной Артюр де Ришмон, как всегда хладнокровный и невозмутимый.
Англичане упустили из виду, что за времена, прошедшие с момента победоносных для них битв, военная техника не стояла на месте, а неоднократно битые французы сумели извлечь правильный урок из своих поражений. Никто не бросился очертя голову против английских укреплений, как то из раза в раз происходило раньше, никто, в погоне за славой, не подставлял себя под тучу английских стрел, не мешал рядов, и не устраивал суматохи и паники, игнорируя приказы главнокомандующего. Времена воистину изменились. Дисциплинированная армия остановилась несколько дальше, чем могли достать английские лучники, и выдвинув вперед генуэзскую артиллерию, которой в избытке снабдил свои войска Жан де Дюнуа, расстреляла в щепы английские укрепления. Поражение довершили нормандские крестьяне, напавшие на англичан с тыла — с дубинами, трофейными мечами, а кое-кто даже с заостренными вертелами, также по необходимости годившимися вместо оружия. Кровавый разгром был неожиданным и полным, в согласии с сообщениями хроникеров (скорее всего, несколько приукрашенными), граф Клермонский потерял в этом сражении… 12 человек, в то время как англичане оставили на поле боя до 3 тысяч 774 из своих солдат. Деморализованный капитан Кириел вместе с несколькими высшими офицерами и 1600 простыми латниками сдался в плен. Лишь только Мэттью Гоу, с половиной своего потрепанного отряда сумел оторваться от преследования и отчаянным галопом ускакать прочь. Это произошло 12 апреля 1450 года.
15 апреля, усталый гонец привез весть о победе войскам Жана де Дюнуа. Как несложно догадаться, среди нормандцев и среди королевских солдат, она вызвала настоящий взрыв энтузиазма. Даже Карл Орлеанский, прикованный к постели приступом жестокой лихорадки, слабой еще рукой вывел на бумаге «Ликуй, же Франция, вольная ныне, войну за тебя ведет сам Господь»[56]).
|
Между тем Дюнуа во главе основных французских сил 21 апреля приступил к осаде Байё, где захватчики, за многие прошедшие годы успевшие закрепиться в Нормандии, основали уже постоянную колонию — с женами и детьми. Французские войска в скором времени пополнились за счет победителей при Форминьи, сюда же, за своей долей славы, поспешил неизменный герцог Жан Алансонский. Жестокая бомбардировка сделала свое дело, и 16 мая ключи от города перекочевали в руки Ришмона, который со всей полагающейся случаю помпой, передал их Жану де Дюнуа. Однако, ожидаемых милостей осажденные не получили, непреклонный главнокомандующий требовал, чтобы они сдали все, имеющееся на руках оружие, и покинули город пешком, вооруженные единственно палками. Кое-как собственным командирам удалось воззвать к разуму своего «генерального капитана», справедливо указывая, что вместе с уходящими солдатами будут женщины, младенцы и старики, для которых подобный демарш означает почти неизбежную гибель. К счастью, наш Бастард никогда не был склонен к бессмысленной жестокости. По его приказу, для них, вкупе со «знатными девицами и людьми благородной крови» были предоставлены крестьянские повозки, запряженные неторопливыми, но могучими волами. На них погрузили также то немногое имущество, которое победители позволили вывезти прочь, и английская колония в полном составе беспрепятственно достигла Пор-ан-Бессена, где погрузилась на корабли и навсегда покинула негостеприимную нормандскую землю.
Молниеносное по тем временам освобождение Нормандии продолжалось. Вслед за тем Кан обложен был с трех сторон, чтобы обезопасить себя от возможного удара в тыл, де Кюлан и маршал да Валонь подчинили себе близлежащий Восель, граф Клермонский, вновь в сопровождении коннетабля, заняли аббатство Сент-Этьенн, и наконец, графы Неверский и Э очистили от англичан Аббе-о-Дам. В скором времени к осаждающим присоединился Жак Кер и командир королевской артиллерии Жан Бюро, после чего участь города была предрешена. Впрочем, герцог Сомерсет все еще не желал признавать себя побежденным. Его стараниями среди шотландских наемников короны сложился заговор, целью которого было ни много ни мало как похитить главнокомандующего французской армией де Дюнуа (впрочем, при невозможности такового действа, Сомерсет был готов получить вместо него Жака Кера, Жана Бюро или королевского советника сира де Вилькье). Засим же, заговорщики должны были скрытно доставить в расположение французов до 1500 английских солдат; в случае удачи, Сомерсет обещал выплатить им 4 тыс. полновесных экю. Надо сказать, что затея оказалась совершенно невыполнимой и посему, дальше разговоров дело не пошло; и вся эта история получит огласку много позднее. Пока же, вернемся к начатому[56]).
Понимая, что удерживать город далее уже невозможно, Сомерсет, смирившись с неизбежным, 24 июня вступил в переговоры с противником, соглашаясь уступить французам город 1 июля. Условия были приняты, и в назначенный день ключи от городских ворот опять-таки перекочевали к Ришмону, который в свою очередь передал их Жану Орлеанскому[56]).
4-го числа того же месяца пал Домфрон, торжествующий король Франции 6 июля со всей пышностью въехал в Кан, в то время как английский флот предпочел опасливо передислоцироваться в далекий Кале [57]). 21-го в руки французов перешел Фалез. Тяжелее всего далось покорение Шербура. Французский лагерь здесь вынужденно располагался в зоне прилива — артиллерийские орудия заливало водой, чтобы спасти из от ржавчины, каждый раз, когда вода начинала наступать их приходилось смазывать салом и укутывать в прочные кожи. С отливом, защиту убирали прочь, и стрельба возобновлялась с прежним ожесточением. Лишенный всякой надежды на помощь, начавший испытывать голод и нужду Шербур капитулировал 12 августа. Здесь во французском плену оказалась супруга самого английского главнокомандующего — герцога Сомерсета, и Дюнуа, как видно, не без злорадного удовольствия, назначил за герцогиню выкуп, равный тому, какой его заставили выплатить за Жана Ангулемского.
Немногим менее чем за год после начала кампании (невероятная скорость по тем временам!) Нормандия была полностью очищена от захватчиков. Благочестивый король, на которого со всех сторон сыпались поздравления, в свою очередь призвал страну принести «благодарение Богу, каковому едино принадлежит сказанные честь и слава.»
Короткое возвращение домой
|
На короткое время наш Бастард задержался в Нормандии, где компанию ему составляли Жан Ангулемский с молодой супругой и коннетабль Ришмон, назначенный наместником герцогства. Впрочем, этот последний в скором времени заспешил в бретонский Нант, где больной водянкой герцог Франциск 17 июля 1450 года наконец-то отдал Богу душу. Пользуясь короткой передышкой, новый хозяин Лонгевилля поспешил навестить свои новые владения, где немедленно назначил на должность нового губернатора, бальи, казначея и даже судебного исполнителя и, как и следовало ожидать, затеял очередное строительство. Стены в Лонгевилльском замке держались, можно сказать, на честном слове, посему, немедленно призвав на совет архитекторов из Дьеппа и Руана, Бастард поручает им ремонт ветхого здания. Кроме того, в подчинении у графства находятся деревушки Жиффар, Даммвилль и Анневилль, на которые, впрочем, претендует Жюмьежское аббатство. Новый хозяин графства, посетив и эти отдаленные владения, решает не доводить дело до судебного решения, которое неизвестно когда может последовать, и решает его ко взаимному удовлетворению, передав монахам Анневилль «вкупе с лугами и правом вести лов рыбы в Сене». В награду за уступчивость, 29 августа того же года король награждает его 1500 ливрами единовременной выплаты[57]).
В руках англичан оставалась только Аквитания, куда направлялось отныне острие главного удара. Надо сказать, что задача эта была куда сложнее и нетривиальней покорения Нормандии. Если в первом случае симпатии населения были на стороне французов, то Гиень, Гасконь и часть Лангедока (составлявшие в соединении своем герцогство Аквитанское), уже 300 лет, со времени брака Алиеноры Аквитанской и короля Генриха Плантагенета, находились под патронажем английской короны (де-факто будучи практически свободными, обязанными лишь к содержанию сравнительно небольших английских гарнизонов) и были вполне довольны подобным положением дел[58]. Кто знает, быть может повернись история по-иному, бравый шевалье д’Артаньян отправился бы покорять не Париж, а Лондон, и Александру Дюма пришлось бы строить свой роман в совершенно ином ключе?...
Впрочем, наступление пока откладывалось, граф де Пентьевр, и сеньор д’Орваль в сентябре 1450 года начали исподволь готовить будущую кампанию, формируя для того армию, а также заготавливая для нее продовольствие и фураж в достаточной мере. Бывший главнокомандующий, выхлопотав себе очередной отпуск, в начале сентября 1450 г. поспешил к давно дожидавшемуся его семейству, в Божанси, где графиня Мария незадолго до того произвела на свет девочку, получившую при крещении имя Катерина. Вместе с собой граф де Дюнуа вез документы касательно будущей южной кампании, которые ему за время зимнего отдыха следовало основательно изучить [59].
Впрочем, и без того планы Бастарда и его супруги, едва поднявшейся после родов, были огромны. За то, короткое время, пока готовилось наступление на Юг, следовало хотя бы приступить к ремонту полуразвалившегося замка в Божанси (в городе, который наш Бастард твердо решил сделать своей столицей), не забыть заказать архитекторам, специально для того выписанным из Орлеана, Блуа, и даже из далекого Тура[57], проект маленькой семейной часовни (св. Капеллы, в согласии с терминологией того времени), должной располагаться по соседству с основным зданием, и наконец (давняя мечта нашего героя!) приступить к работам в Клери. Забегая вперед, скажем, что работы эти продлятся около десяти лет, т.к. добротно отремонтированный замок понадобится еще обустроить изнутри, а также достойным образом украсить. Сам граф де Дюнуа уже не увидит в полной мере, окончания этих работ. Впрочем, не будем спешить. Пока что даже его желанию лично присматривать за начавшимися работами[57], не суждено было осуществиться: едва лишь каменщики и штукатуры приступили к делу в южном крыле замка (носившем имя Сен-Медар), в первую очередь нуждавшемся в срочном ремонте – как Главного Камергера Франции снова вытребовали к королю.
На сей раз вечно кочующий двор Карла VII (вплоть до смерти он так и не простит измену своей столице), оказался в Монбазоне, где местный замок окружали пышные сады, в это осеннее время радовавшие глаз оттенками золотого и алого.
Король в очередной раз ссорился со своим своенравным сыном. Пятью годами ранее, дофина Франции – Маргарита Шотландская, умерла от скоротечной чахотки или же воспаления легких, болезни, которая, как мы помним свела в могилу также супругу Карла Орлеанского Бонну. Жениться во второй раз Людовик решил сам, избрав в качестве невесты 11-летнюю Шарлотту Савойскую. В качестве приданого у ее отца истребовано было 400 тыс. золотых экю, в случае, если савойская казна не в состоянии была поставить деньги в срок, дофин выговаривал себе право завладеть графством Нисским. Надо сказать, что савоец немедленно воспротивился, но возможно, его все же удалось бы уломать, если бы не одно неожиданное препятствие. Дело в том, что стареющий король имел совершенно иные виды на женитьбу старшего сына – желая обручить его с юной дочерью герцога Бекингемского, и тем самым упрочить отношения с Англией. На худой конец, случись англичанам отвергнуть подобное предложение, в качестве невесты рассматривалась португальская принцесса. Но своенравный наследник, как водится, спутал все карты, и в довершение всех бед ускакал в Шамбери, как видно опасаясь, что в противном случае его женят насильно.
Именно туда, вслед за епископом Мальезенским (уже потерпевшим полное поражение в переговорах с упрямцем), был срочно отправлен великий камергер Франции. Первая встреча – можно сказать, разведка боем, между Жаном Орлеанским и советом опального дофина произошла 1 ноября 1450 года. Она не продлилась долго, как в скором времени пришлось убедиться королевскому посланцу, всей его дипломатичной ловкости не хватало, и не могло хватить, чтобы переубедить своенравного принца. Указав на то, что одиннадцатилетняя герцогиня Бекингемская избрана для того королем, который имеет полное и безоговорочное право самолично выбирать супругу для наследника престола[58], он получил немедленную отповедь от невозмутимых советников дофина, что их господин сам имеет право выбирать с кем ему идти под венец. Сам Людовик раздражался, срывался на крик, в конце концов, успокоившись, самым «миролюбивым» образом попросил Дюнуа посодействовать ему, в завоевании Гиени а также в том, чтобы в союзе с будущим тестем присоединить к Франции... Милан и Геную[59]. Коротко говоря, переговоры зашли в тупик, понимая, сколь бессмыcленно продолжать настаивать на своем (тем более, что король медлил с ответом на столь неожиданное предложение), Дюнуа отбыл прочь, чтобы – при необходимости продолжить этот спор успеть вызвать к себе закадычного друга дофина – Роже де Голана, герольдмейстера Нормандии, который, как полагали, имеет достаточное влияние на упрямца. Впрочем, главного камергера короля в это время ждало еще одно непростое поручение.
Присяга бретонца и вторая женитьба дофина
|
Как мы помним, герцог Бретонский Франциск, больной водянкой 17 июля 1450 года отдал Богу душу, и престол этого владения, исключительно важного по своему стратегическому положению между Англией и Францией, должен был перейти к его младшему брату Пьеру, носившему титул графа де Гингам.
Чтобы понять дальнейшее нам следует, дорогой читатель, совершить краткий экскурс в историю феодальных отношений. Итак, устоявшийся обычай требовал, чтобы наследник усопшего, желая оставить за собой феод (который его предки с незапамятных времен держали в качестве вассалов французского короля), в течение одного года и одного дня предстал перед сюзереном, и в присутствии свидетелей принес торжественную присягу на верность. Проигнорируй наследник подобное предписание — сеньор со всем правом мог вернуть себе свое владение, чтобы передать его более надежному человеку. Надо сказать, что отбирать герцогство Бретонское у династии Монфоров никто не собирался (да и подобная попытка была бы чревата большой войной), однако, в вопросе принесения присяги можно было при благоприятных обстоятельствах умело сыграть. Дело в том, что Средневековье знало две возможности исполнения этого обряда, т. н. «большая присяга», которую вассал приносил безоружным, склонив колени перед господином, и вложив свои руки в его, получал от господина «поцелуй в уста», и лишь затем поднимался на ноги. «Большая присяга» предусматривала практически полное подчинение вассала своему сеньору, и обязанность воевать под его знаменами «против всех без исключения». Согласно обряду «малой» присяги, вассал давал клятву стоя, в полном вооружении, чем давал понять, что сохраняет определенную самостоятельность, и будет воевать лишь с теми или иными государями (по своему усмотрению). Обычно, чтобы избежать непонятиц, в вассальном договоре специально указывалось «за исключением таких-то». Именно этот пункт был камнем преткновения во время ожидавшейся церемонии. Уже несколько раз французские короли всеми правдами и неправдами пытались пытались получить от очередного бретонца «большую присягу», надеясь на его легкомыслие или неосторожность, чтобы затем использовать ее как прецедент для полного подчинения этой страны французской короне. Однако, бретонцы держались начеку, и подобные планы из раза в раз благополучно проваливались. Посему, один из искуснейших дипломатов королевства — Жан Орлеанский — в канун принесения присяги был спешно вытребован ко двору, чтобы попытаться совершить невозможное. В конце концов, Пьер Бретонский, получивший от своих подданных прозвище «Простой», по слухам не отличался особым умом… почему было не попытать счастья и на этот раз?
Коротко говоря, Дюнуа, срочно вытребованный ко двору, 3 ноября 1450 года, в присутствии полагающегося по обычаю блестящего собрания принцев крови и пэров Франции (а также собственной супруги, Марии д’Аркур, также изъявившей желание участвовать в церемонии), в полном облачении Великого Камергера торжественно провозгласил: «Монсеньор Бретонский, сегодня вам предстоит произнести ленную присягу за герцогство Бретонское, являющееся пэрством Франции, королю и сюзерену нашему, а также суверенному сеньору такового герцогства, а также поклясться и присягнуть спасением души вашей, служить и повиноваться ему как сюзерену вашему против всех (его врагов)… получив затем поцелуй в уста…»
|
Бретонец прервал его с неожиданной резкостью: «Монсеньор, я совершу то, что было в обычае у моих предков касательно мессиров предков ваших, и ничто иное». Волей-неволей, королю пришлось подняться с трона и наградить поцелуем непокорного вассала, ограничив тем в глазах закона присягу последнего до «малой». Таким образом, как нетрудно было предположить, попытка в очередной раз провалилась. Череда пиров, танцев, и турниров, последовавшая после этого события, не слишком интересовала нашего героя. Вместо того, при первой же возможности покинув двор, он поспешил в Нормандию, где ему следовало возглавить королевскую делегацию на время работы Генеральных Штатов провинции, открывших свои заседания 30 ноября 1450 года. Нормандию следовало постепенно встроить в общий механизм функционирования государственного аппарата Франции, вне которого, как мы помним, ей поневоле пришлось просуществовать в течение тридцати с лишним лет. Посему, Пьер де Брезе, новый сенешаль (наместник) провинции, должен был подготовить для утверждения королем новую редакцию Нормандской Хартии — прав и вольностей герцогства, соблюдавшихся со времен первого правителя этих мест — герцога Роллона. Что касается Дюнуа, ему предстояло решить вопрос с налогообложением провинции. Война требовала денег, и Нормандии следовало оплачивать содержание войск на равных правах со всеми прочими субьектами королевства. Нормандцы славятся своей неуступчивостью, посему задача была достаточно непростой. После долгого торга, изначальную сумму в 400 тыс. золотых экю им удалось снизить до 290 тыс. (вполне резонно указывая, что провинция опустошена войсками как англичан, так и французов). Новый налог «должный распространяться на всех светских лиц таковой земли, вне зависимости от состояния, распределяясь наиболее справедливым и равным образом, сколь к тому есть возможность, дабы сильный поддерживал слабого», был утвержден без дальнейших споров, и обе стороны разошлись, вполне удовлетворенные достигнутым компромиссом[54].
За это время король успел перебраться в Монтиль-ле-Тур, расположившись там до конца зимы. Главный камергер короны, граф де Дюнуа вместе с супругой и четырьмя детьми в это время предпочел устроиться в собственной резиденции в Шатореньо, в достаточной близости от короля, который мог затребовать его к себе в любую минуту, и все же — несколько в стороне. Как мы помним, Дюнуа, с достаточной критичностью относившийся к разнузданной роскоши и лености, царившей в ближайшем окружении Карла VII, и в этот раз получил от двора стойкое отрицательное впечатление. Похоже, стареющий монарх просто не мог существовать без очередной фаворитки, и место безвременно угасшей Агнессы уже заняла ее кузина Антуанетта де Меньеле, дама несколько перезрелая, но весьма опытная как в любовных делах, так и в самом неприкрытом интриганстве, к счастью, ограничивавшимся делами чисто придворного свойства — без всякого влияния на политику. Впрочем, Бастарду и в этот раз было не до королевских шашней. Его давний друг и соратник по военным походам, Потон де Сентрайль и маршал Франции де Валонь представили окончательный план кампании против Гиени. Надо сказать, что с наступлением нужно было поторапливаться, так как нетерпеливые южные феодалы — Альбре, Фуа и Арманьяк (опять этот Арманьяк!) как водится, никого не поставив в известность, уже открыли военные действия, 10 октября 1450 года с налета захватив Бержерак и 31 октября Базас — памятный тем, что здесь полегло когда-то войско рыцаря-разбойника де Рошбарона, открыто похвалявшегося тем, что в скором времени он на золотом блюде принесет своему новому сюзерену ключи от городов Нижней Оверни. Надо сказать, что Базас в самом деле представлял собой удобнейший плацдарм для начала наступления на Юг, так как прикрывал собой всю северную часть страны вплоть до окрестностей Бордо[59].
Между тем, не забывая о необходимости любым путем расстроить потенциальный брак дофина с савойской принцессой, 28 февраля следующего 1451 года, он вызвал к себе доброго друга наследника престола — де Голана, герольдмейстера Нормандии. Тот, желая угодить королю, с готовностью взялся исполнить подобное поручение, и в скором времени пустился в дорогу, напутствуемый трезвыми советами Дюнуа: в первую очередь попытаться повлиять на отца невесты и понудить его отказать дофину под страхом надолго испортить отношения с Францией. Кроме того, напутствовал Дюнуа, от принца следует также добиться того, чтобы он согласился с доводами отца, и принял в качестве своей новой невесты Элеонору Португальскую и навсегда отказался от своих намерений, причем не верить ему на слово, но требовать письменного подтверждения своего согласия. Впрочем, и в этом случае все усилия оказались напрасны, 8 марта 1451 года, подъезжая к воротам Шамбери, герольдмейстер услышал веселый перезвон колоколов, сопровождавший церемонию венчания, которая уже разворачивалась в главном городском соборе. Кроме того, заранее предваряя противодействие короля, дофин и его будущий тесть Людовик Савойский пятью днями позднее подписали союзнический договор, и далее — надо сказать, этот ход был весьма ловким — поспешили женить сына Савойского герцога на Иоланде Французской — сестре дофина[60]. Герольдместеру Нормандии оставалось вернуться ко двору с дурными вестями. Как и следовало ожидать, король Карл принял случившееся с нескрываемой горечью, в то время как дофин, счастливый тем, что смог настоять на своем, на радостях снизил размер приданого до 300 тыс. экю. Забегая вперед, скажем, что он окажется никудышным супругом, и столь же негодным отцом, и брак этот, заключенный единственно ради династической необходимости также не принесет счастья никому.
Бросок на Юг
Начало наступления и сопутствующие события
|
Впрочем, дела государственные также не желали ждать. В начале весны все того же, 1451 года, Карл Орлеанский и Жан Ангулемский, вместе с единокровным братом срочно вытребованные ко двору, приняли участие в военном совете, где уже окончательно был утвержден план наступления против Аквитании. Герцог Бургундский также прислал на совет своих представителей, хотя отношения Франции и Бургундии в очередной раз оказались весьма натянутыми — и немудрено. Чувствуя себя достаточно сильным, король Карл озаботился возвращением себе городов и крепостей, отданных Бургундии в соответствии с буквой договора в Аррасе. Чтобы герцог Филипп стал сговорчивей, французы также поддержали очередное восстание у него в тылу, в вечно недовольном бургундским управлением Генте. Дипломатическая активность на этом фронте носила большей частью секретный характер, посему у нас есть лишь косвенные упоминания в документах, что граф де Дюнуа принимал в ней самое активное участие[60].
Между тем, подготовка к южной кампнии шла своим чередом. Стоит отметить, что в те неспешные времена даже «срочное» наступление требовало времени на оснащение войска, снабжение в достаточном количестве продовольствием людей и фуражом животных, так что окончательным сроком для начала атаки была избрана середины весны. Двор за это время успел оказаться в Туре, и здесь Пьеру де Брезе окончательно было отдано сенешальство нормандское (это направление все еще оставалось приоритетным, так как требовалась постоянная бдительность, чтобы своевременно пресечь новые попытки англичан высадиться на побережье), в то время как 31 марта Жану де Дюнуа было вручено командование над 10 тысячами латников — более чем серьезной силой по тем временам. И вновь «генеральный капитан», только на сей раз «для завоевания Аквитании»; в состав его штаба получили назначение Жан Ангулемский и неизменный Жан Бюро, по-прежнему стоявший во главе устрашающего артиллерийского парка. К основным силам примыкали вспомогательные войска под командованием Жака де Шабанна и наконец — отряды Арманьяка и сира д’Альбре, которым также не терпелось отличиться на военном поприще, и, не будем кривить душой, разжиться богатой добычей, как во времена северной кампании его сопровождал Жан Алансонский — этот принц крови, и бывший начальник штаба при Жанне, а также бывший участник Прагерии, прощенный королем[61].
Походя стоит отметить, что в это время наш Бастард достигает, пожалуй, пика своей карьеры. Орлеанский дом как никогда ранее пользовался благосклонностью суверена. Приблизительно в это же время графиня Мария получила в награду от короля пожизненное право удерживать на собой наместничество в Мелене — одной из крупнейших крепостей, прикрывавших собой столицу, и плюс к тому пожизненное же право пользоваться доходами с этой земли. Подобная милость да еще и для женщины — это было в те времена делом почти неслыханным, однако, супруга нашего Бастарда, по-видимому, заслужила подобную честь в полной мере. Кроме того, Карл Орлеанский «для охраны графства Асти» 27 мая того же года получает от короны 12 тыс. экю единовременной выплаты, еще Жан Ангулемский — 5 тыс., «для поддержания своего состояния», как мы помним, во многом потраченного на грабительский выкуп — и еще тысячу, на необходимые восстановительные работы в доставшемся ему от Бастарда городе Роморантене[61]. Пока же графиня Мария вместе с детьми вернулась в Божанси, а ее супруга с головой поглотили военные приготовления.
Сам король, которого наш Бастард настоятельно уговаривал хотя бы номинально возглавить новую экспедицию, предпочел остаться в объятьях своей любовницы — на сей раз в Тальебурге, продолжая вести по выражению злоязычного Филиппа Эрланже «жизнь на восточный манер». Впрочем, в какой-то мере уговоры Бастарда возымели свое действие: на недолгое время покинув Монтиль, где расположился кочующий двор, король на несколько дней показался в южном Герше, где подписал бумаги, необходимые для официального признания графа Дюнуа главнокомандующим. Поход начался[62].
4 мая после нескольких часов плотной бомбардировки открыл ворота Монгийон, следующим в плотном кольце осады оказался Блай — одна из мощнейших южных крепостей, полагавшейся ключом к столице Аквитании Бордо. Столичное снабжение, осуществлявшееся по двум рекам, обе из которых проходили через город подобным образом, было перерезано. Между тем англичане морским путем пытались прорваться к осажденной крепости, но были рассеянны мастерским ударом французского адмирала Жана ле Бурсье, который, отогнав англичан к Жиронде, вслед за тем высадил своих людей на сушу, и моряки присоединились к Бастарду, пополнив таким образом численность войск. Отправив Шабанна вместе с его отрядом на Юг, Дюнуа вместе с бретонским графом де Пентьевром предпринял решительную атаку, и 20 мая город пал. Во время штурма блайского замка, в плену оказался мэр Жан де Ростан и его помощник Бертран Дагаз вместе с двумя сотнями лучников. Английский гарнизон был уничтожен до последнего человека. Вслед за тем вместе с гиеньским герольдом Карлу VII полетело донесение:
| |
Мой суверен и могущественнейший сеньор, нижайше препоручаю себя благосклонности и милости вашей. Через посредство де Гиеня, герольда, довожу до сведения вашего, что сказанный город Блай, в субботу, после захода солнца взят был посредством штурма, каковое дело для нас, при том присутствовавших показалось весьма поразительным, при том, что штурма, с таковым размахом предпринятого, не знало еще время наше, ибо сила сказанной крепости превосходила все виденное нами в Нормандии, по причине великой численности войска там находившегося... ибо число тамошних защитников доходило до VIII тысяч...
Могущественнейший сеньор мой, ничто более, свершившееся в таковое время я не буду описывать вам ныне, при том, что ожидаю приказов ваших, касательно того, что вам угодно, и что будет свершено, ежели то находится будет в пределах разумных возможностей наших, к удовлетворению Господа нашего, каковой да дарует вам добрую жизнь на многие года, а также осуществление благородных желаний ваших. |
|
Вновь Бастард настоятельно просил короля возглавить наступающее войско, чтобы одним своим присутствием произвести нужное впечатление на своих новых подданных, однако же монарх, вольготно расположившийся в Тальебурге, в гостях у Оливье де Коэтиви — сына адмирала Франции, чей отец незадолго до того занял опустевшее место фаворита — вовсе не спешил оказаться на поле боя. Обольстительная Антуанетта завладела воображением и сердцем монарха, а война… у него были хорошие генералы!
Столица Аквитании переходит под власть французской короны
|
Впрочем, кроме любовных шашней в ставке монарха разворачивались и другие дела не менее скандального свойства. В частности, генерал налогового ведомства Франции Жан Барилье (или Жан де Сенкуэн - простолюдин, через отца удостоившийся в 1446 году потомственного дворянства, обладавший, надо сказать, немалыми способностями и немалым опытом, должным для исполнения столь деликатной миссии), был обвинен в многочисленных злоупотреблениях и казнокрадстве. Походя заметим, что на одной из многочисленных жалоб стоит и подпись нашего Бастарда. Для проштрафившегося финансиста суд потребовал смертной казни, однако же, король счел за лучшее помиловать своего вороватого, но верного слугу, впрочем, постановив конфисковать его немалое имущество, нажитое не самым честным путем. Пышная резиденция уже бывшего королевского чиновника в Туре, т.н. «отель де Сенкуэн», в качестве награды перешла в руки нашего героя[63]. Впрочем, вернемся к театру военных действий.
Наступление продолжалось, наш Бастард, которого в самый для того неподходящий момент настиг жестокий приступ почечной колики – болезни, так до конца не оставившей его в покое после достопамятного возвращения из Италии, тем не менее предпочитал двигаться вперед – когда верхом, когда на конных носилках, не останавливаясь ни на день, даже для поправки пошатнувшегося здоровья. Под ударами наступающих войск пали Бур, Либурн, Сент-Эмильон, Кастильон, и наконец, 5 июня соединившись с отрядами Альбре, Фуа и достопамятного Арманьяка, Бастард замкнул кольцо осады вокруг столицы Аквитании – Бордо. Надо сказать, что подручные нашего героя также не теряли времени даром: в частности, шеститысячная армия д’Альбре (при поддержке его верного союзника – графа Тулузского де Фуа), взяла в плотное кольцо город Дакс, в то время как Арманьяк сумел занять Дюрас и Совтер, походя захватив в свои руки множество знатных гиеньских пленников [63].
Главнокомандующий английскими войсками в Бордо герцог Сомерсет, сменивший на этом посту Саффолка, не имел сил для того, чтобы защищать континентальные владения. Гораздо важнее казалась сейчас для него победа в междоусобной войне, где Йорки оспаривали у Ланкастеров право на британскую корону... история повторялась вновь, уже на противоположной стороне Ла-Манша.
Город, оставленный своим сюзереном на произвол судьбы, не имел средств для защиты, и посему, местные власти, решив не искушать судьбу, немедленно вступили в переговоры с французским главнокомандующим. В качестве парламентария с аквитанской стороны выступал один из крупнейших местных сеньоров, носивший гасконский титул «капталя» (т.е. господина) де Бюш, посредником в переговорах с французской стороной должен был выступить его близкий родственник граф де Фуа. Непреклонный как всегда Бастард, требовал немедленной и безоговорочной капитуляции, единственно согласившись – из уважения к старинному обычаю – позволить осажденным еще раз воззвать к помощи своего сюзерена. В качестве последнего срока был назван день 23 июня. Как обычно, не желая терять времени, он тут же усадил за работу Жана Бюро (уже загодя назначенного наместником Бордо) и Потона де Сентрайля, должных общими усилиями создать приемлемый для обеих сторон план капитуляции[63]. Срок сдачи города приближался с неумолимой быстротой, когда нашего Бастарда в самый неподходящий момент уложил в постель жестокий приступ почечной колики (один из первых его биографов пишет, что положение было настолько тяжелым, что Жан Орлеанский счел для себя за лучшее принять соборование – однако, этот момент остается еще достаточно спорным).
|
Итак, 23 июня, на закате солнца, английский герольд, с высоты крепостной башни громко возгласил: «Англичане на помощь Бордо!...» Ответом солдату была тишина. Дальнейшее сопротивление было явно лишено всякого смысла, и могло закончиться лишь грабежом и убийствами побежденных. Скрепя сердце, последний форпост Англии на континенте открыл ворота солдатам французского короля. Первыми в городе все тем же вечером поспешили войти братья Бюро, чтобы вместе с представителями городских властей привести в окончательный вид условия будущей капитуляции. Из-за болезни главнокомандующего, торжественный въезд пришлось отложить, и лишь 28 июня, в достаточной мере окрепнув, наш Бастард смог наконец покинуть свою походную ставку и в Блае взойти на корабль, который, двигаясь по Гаронне, должен был доставить его к пригородам аквитанской столицы. 29 июня, в день католического праздника Св. Катерины Бастард прибыл на место, и ранним утром следующего, 30 июня, в Бордо, через ворота Шартрон, в полном составе вступило французское войско «выстроенное в добрый порядок» - как одобрительно отмечает хронист.
Горожане всех возрастов и достояний, наспех вырядившиеся в цвета французской короны, скорее настороженные и недоверчивые, чем довольные столь неожиданной переменой своей судьбы, выстроились по обеим сторонам дороги. Главнокомандующий королевскими войсками – Бастард, как и полагалось по случаю, пышно одетый, с непроницаемым выражением лица выслушал клятву верности городских магистратов, и получил городские ключи из рук местного архиепископа Пея Берлана, также присягнувшего французскому королю от имени местного духовенства. Жан Орлеанский был также в достаточной мере разумен и умудрен житейским опытом, чтобы сделать вид, будто не замечает косых взглядов и шепотков за спиной. Понимая, что местным жителям еще придется привыкнуть к тому, чтобы считать себя французами, и процесс этот не следует форсировать насильственными методами, в снежно-белых доспехах, верхом на породистом скакуне, столь же снежно-белого цвета, он торжественно проследовал к городскому собору, в сопровождении брата – Жана Ангулемского (в честь такого случая нарушившего привычное одиночество), и нескольких принцев крови, вместе с новым коннетаблем города – Жоакимом Буо, прижимавшем к груди открытый ларец из чеканного серебра, обитый сверху лазурным бархатом с золотыми французскими лилиями, в котором находились большие королевские печати - символы высшей власти и правосудия. Соборные колокола звонили также скорее по необходимости и уважения к обычаю, соборный капитул также скрепя сердце, вынужден был облачившись полагающиеся случаю золотые ризы, отслужить благодарственную мессу, и вслед за тем в честь победителей устроен был грандиозный пир. Все эти церемонии в которых, многие, как несложно догадаться, принимали участие скорее по необходимости чем по собственному желанию. Надо сказать, что для нашего героя, едва поднявшегося после болезни, многочасовое сидение в седле, и столь же изматывающее официальное празднество, уклониться от участия в котором он не мог никоим образом, оказались достаточно тяжелым испытанием, однако, Жан Орлеанский сумел выдержать его с честью[64].
Непреклонный во время военных действий, Бастард (конечно же, с полного согласия и поощрения своего монарха) повел себя с побежденными в высшей степени корректно, вызывая удивление и даже восхищение мягкостью, совершенно не характерной для той эпохи. Итак, бордосцам давался полугодичный срок, чтобы определиться с выбором, всем, кто никоим образом не желал смириться с властью французского монарха в течение этого времени дозволялось беспрепятственно покинуть Аквитанию, всем оставшимся даровалась амнистия и многочисленные налоговые послабления. Город должен был выбрать депутатов в местный Парламент (напомним, что в это время Парламенты были судебными органами), и здесь же планировалось устроить монетный двор, где старые английские деньги следовало отправить в переплавку, выпустив вместо них полновесную французскую монету. Дело было сделано. В руках англичан оставалась отныне лишь узкая полоска берега с портом Кале. К французской короне она вернется лишь сто лет спустя, когда (как вы понимаете, читатель) никто из героев нашего повествования уже не останется в живых.
«Чудо» под стенами Байонны и победоносное завершение южной кампании
|
Между тем, череда потрясений, которая началась для нашего героя, тянулась и далее, в скором времени ошеломленный Бастард узнал о падении Жака Кера. Этот талантливый финансист, в свое время приставленный к молодому королю Карлу VII вездесущей Иоландой на смену Жану Луве, как мы помним, проигравшему в придворной борьбе и закончившему вечной ссылкой, уже множество раз имел возможность оказать своему повелителю неоценимые услуги. Именно его опыт, ум и недюжинная изворотливость в том, что касалось денежных вопросов, позволял королю всегда располагать в достаточной мере деньгами для покорения Нормандии, Аквитании, да и ведения хозяйства в будущее мирное время. Подлинные причины этой более чем странной немилости так и остались непроясненными. Известно, что среди опечатанных бумаг уже бывшего королевского казначея нашлась расписка на выдачу «графу де Дюнуа… суммы в 722 ливра, 5 су и 11 денье». Деньги, без сомнения, достаточно серьезные, однако, говорить о «заговоре должников», как то иногда пытаются делать — вряд ли возможно. Официальным поводом для ареста и приговора стало обвинение в том, что Кер не то собственноручно, не то через своих поверенных, отравил королевскую фаворитку Агнессу Сорель.
Русскоязычный читатель, в достаточной мере подкованный в литературных вопросах, легко вспомнит, что именно в этом качестве казначей короля появляется на знаменитом балу Сатаны. «Первые!- воскликнул Коровьев. — Господин Жак с супругой. Рекомендую вам, королева, один из интереснейших мужчин! Убежденный фальшивомонетчик, государственный изменник, но очень недурной алхимик. Прославился тем, — шепнул на ухо Маргарите Коровьев, — Что отравил королевскую любовницу. А ведь это не с каждым случается. Посмотрите, как красив!».
Трудно сказать, насколько соответствуют действительности прочие подробности, но, пожалуй, стоит согласиться с автором новейшей биографии нашего Бастарда — Робером Гарнье, что подлинной виной Жака Кера были, по всей видимости, слишком уж тесные отношения с опальным дофином. Здесь, читатель, следует остановиться для небольшого пояснения, так как привычные для того века законы и отношения уже прочно забыты веком нашим. Итак, к своим 55 годам король Франции Карл VII постепенно стал сдавать. Здоровье монарха вызывало у врачей недюжинную тревогу — в особенности беспокоила незаживающая язва на ноге (раковое образование?) вылечить которую не удавалось никакими средствами. Ни для кого не было секретом, что король в лучшем случае проживет еще несколько лет. Высшие сановники, по обычаю, терявшие свои должности вместе со смертью властелина, в том случае, если у них не имелось наследственных земель и постоянных доходов, должны были поневоле принять срочные меры, чтобы хоть как-то обеспечить свое будущее. Посему, сближение с опальным дофином для Кера было практически неизбежно. Столь же хорошо известно, что «лисенок» на дух не переносил королевскую фаворитку, быть может, не без оснований опасаясь, что под ее влиянием, отец может отстранить его от наследования. Однако была ли Агнесса Сорель действительно отравлена, и если да, действительно ли к этому был причастен Кер (пожелавший таким образом доказать свою преданность новому господину) — так и остается недоказанным. Нам стоит лишь заметить, что финансист лишился имущества и должности, и некоторое время путешествовал из тюрьмы в тюрьму, пока из Пуатье не сумел наконец-то бежать в Италию, где нашел себе нового покровителя в лице папы Каликста, и закончил свой век в качестве адмирала христианского флота, должного остановить турецкое нашествие на Европу. Наш Бастард, как мы помним, бывший в добрых отношениях с опальным казначеем, в данный момент ничем не мог помочь ни ему самому ни его семье. Позднее, по ходатайству вдовы и детей Жака Кера, им была возвращена часть конфискованного имущества — в чем сторонники невиновности опального казначея видят твердое доказательство своим воззрениям. Впрочем, вернемся.
Последним форпостом англичан на Юге Франции оставалась Байонна, и покорение этой мощной крепости для французов становилось неотложной необходимостью. По всей вероятности, подготовка к наступлению началась уже в конце июня, после благополучного окончания осады Бордо. Надо сказать, что старший брат это время вновь решил порадовать нашего героя своими милостями, 1 июля уступив ему пожизненно наместничество над городом Блуа, а также отписав Бастарду и его потомкам владение множеством небольших владений, зависевших от графства Блуа (все в пределах церковного округа Ук) а также доходы с рынка что в Бонневале. Как в Средние века, так и сейчас, это была далеко не маленькая сумма![65]
|
6 июля Байонна была взята в кольцо, и по приказу нашего Бастарда, братья Жан и Гаспар Бюро начали плотную бомбардировку города. Впрочем, его обитатели не думали сдаваться, борьба за овладение городом затягивалась на неопределенный срок, так, что будь у англичан достаточно решимости и воинской силы, они могли бы попробовать переломить ситуацию в свою пользу. К счастью для Франции, ни того ни другого у них не нашлось, зато Бастард, как обычно, непреклонный и готовый к любым сюрпризам военной фортуны, назначил решительный штурм на 21 августа 1451 года. То, что произошло далее, внятного объяснения никогда не получило. Современники нашего Бастарда склонны были видеть в этом малопонятном событии перст Божий и внятное доказательство, что справедливость находится на стороне французского короля. С более прагматичной точки зрения XXI века можно предположить, что речь шла о солнечном гало — явлении редком, но все же не исключительном, при явлении которого осажденные, во многом надорвавшие свои силы в бессмысленном сопротивлении пожелали увидеть свою судьбу. Итак, судите сами. О произошедшем мы можем судить по единственному письму, подписанному Жаном Орлеанским и графом де Фуа. Послание предназначалось королю Карлу, и содержание его выглядит следующим образом[66]:
| |
Сир, как то доподлинно известно, в тот самый час когда люди ваши покоряли себе замок, что в Байонне, небо было совершенно ясным и чистым, тогда как со стороны Испании не явилось внезапно над городом облако, имевшее вид огромного креста, белого цвета, и там же остановилось и замерло в течение часа или около того, не двигаясь далее с места. Оно же имело форму распятия, с короной во главе, каковая же корона затем преобразовалась в королевскую лилию. Это же произошло на глазах у всего войска вкупе с отрядом из 1000 или же 1200 человек, прибывших из Испании, каковые также состоят на службе вашей. | |
Так или иначе, сопротивление осажденных было сломлено. Странное явление в одночасье сумело убедить суеверных байонцев, что Богу угодно, чтобы город был сдан, и все они «приняли белый крест Франции». В тот же вечер город открыл ворота, и наш Бастард расположился со своей ставкой в местном замке[67].
Итак, война де-факто, стремительно близилась к своему концу. В руках у англичан на французской земле оставался только порт Кале и небольшая полоска земли вокруг него. Забегая вперед, скажем, что это последнее владение Англии на континенте вернется к французской короне сто лет спустя, когда уже никого из героев нашей истории, конечно же, не будет в живых.
Впрочем, предаваться отдохновению у нашего Бастарда не было ни возможности, ни даже времени. Следовало как можно быстрее организовать правильное управление вновь завоеванными землями, чем он немедленно занялся вместе с графом Клермонским, в то время как Жан Ангулемский, убедившись, что в его услугах нет немедленной нужды, поспешил вернуться к своему обычному уединению в ангулемском замке. Освободившиеся войска в ожидании следующей кампании, были распределены по гарнизонам, а Бастард в скором времени получил приказ немедленно прибыть к королю на очередной заседание Совета. Повод был нешуточным — с одной стороны, Филипп Бургундский под шумок сумел присоединить к своим владениям Люксембург, с другой, англичане (как несложно было предвидеть), опасаясь, что за Байонной последует их последний форпост во Франции, срочно развернули вокруг города корабельную охрану в количестве двенадцати вымпелов, более того, на континент ожидалось в скором времени прибытие сразу трех английских армад: для захвата Нормандии, Бретани, и наконец, для надежной защиты Кале. Против угроз с обеих сторон требовались решительные меры: бургундцу было решено противопоставить в качестве соперника молодого короля венгерского Ладисласа (Карл Французский подумывал о том, чтобы отдать ему в жены одну из своих дочерей, но затем отказался от этого намерения), наш Бастард, 28 ноября назначенный наместником Нормандии (на которую, как полагалось, будет направлено острие главного удара с английской стороны), получил приказ немедленно отбыть к новому месту службы. Впрочем, существовало одно здравое соображение: осень шла уже к концу, а в сложную для плавания и для ведения военных действий зимнюю пору, англичане вряд ли могли решиться на серьезное наступление.
На пути к прочному миру
Аквитания ненадолго потеряна вновь
|
Выигрыш во времени следовало использовать в полной мере; после короткого свидания с супругой в Туре (куда она прибыла вместе с детьми), Бастард поспешил в Нормандию, где вместе с Пьером де Брезе провел зиму в хлопотах по укреплению обороны важнейших крепостей. Впрочем, к Рождеству ему удалось выкроить время, чтобы ненадолго вернуться к своему семейству в Божанси, а затем навестить братьев в Роморантене и Блуа, проинспектировать ход строительства в Шатодене и Клери, и вновь на короткое время вернуться в свою столицу. Впрочем, насладиться уютом в семейном кругу не получалось и в этот раз, и, надо сказать, не могло получиться. В конце февраля 1452 года великий камергер королевства был срочно вызван ко двору[68]. Надо сказать, что в это время в Монтиле, где в это время с комфортом обустроился королевский двор, появился кардинал д’Эстотвиль, призванный к исполнению миссии достаточно щекотливого свойства. Кардиналу требовалось ни много ни мало, склонить короля к отмене «Прагматической санкции», столь выгодной для короны, столь, скажем так, убыточной для церкви. Кардинала выслушали с подчеркнутой холодностью, и понимая, что он несколько поспешил, и желая сохранить добрые отношения с французским сувереном, кардинал заверил того, что готов способствовать восстановлению доброго имени Жанны Девы.
Надо сказать, что после столь соблазнительного обещания, отношение к прелату переменилось как по волшебству, в честь него был дан грандиозный пир, после чего, обласканный и осыпанный подарками, в апреле 1452 года он отправился в Руан, чтобы продолжить работу, начатую два года назад Гильомом де Булье. Вернувшись после того в Рим, старательный кардинал принялся сколь то было в его силах обхаживать папу, а также собирать комиссию из ученых богословов, а также легистов и докторов канонического права, должных в недалеком будущем составить ядро судейского корпуса. Дело хотя и со скрипом, принялось набирать обороты, в качестве истицы официально следовало выступить матери Жанны — Изабелле Роме, король благоразумно предпочел держаться на втором плане, чтобы откровенно политическая подоплека всего дела не бросалась в глаза. Впрочем, папа Николай V колебался и тянул с ответом, не решаясь произнести ни окончательное «да» ни «нет». Забегая вперед скажем, что вплоть до своей смерти 24 марта 1455 года осторожный понтифик так и не сможет заставить себя прийти к какому-либо решению, так что принимать его волей-неволей придется его последователю. Засим исполнительный кардинал д‘Эстотвиль, 9 июня 1452 года со всей помпой появится в Орлеане, где его уже будут с нетерпением дожидаться герцог Карл, Жан Ангулемский, и конечно же, наш Бастард. Целью кардинала будет уже официально утвердить для города 8 мая в качестве праздника освобождения от приснопамятной осады. Заметим, что традиция эта останется в неприкосновенности вплоть до наших дней.
Между тем вести из Англии не внушали оптимизма. Лазутчики французского монарха докладывали, что мятежный герцог Сомерсетский наконец-то сподобился принести вассальную клятву своему суверену — при условии, что война во Франции будет продолжена[68]. Уже было известно, что генеральным капитаном будущей армии вторжения назначен старый и опытный Тальбот. Времени терять было нельзя, и уже в середине лета 1452 года Бастард спешно поскакал в Нормандию, чтобы вновь принять начальствование над тамошними силами. В начале августа он уже был в Дьеппе, где вместе с Ришмоном, Брезе, Флоке держал военный совет. Решено было поручить коннетаблю оборону Нижней Нормандии, в то время как сам Дюнуа, вместе с десятью полностью укомплектованными воинскими отрядами остался дожидаться противника в Дьеппе. Гарнизоны Руана и Арфлера были значительно усилены, отряды «вольных стрелков» расположились по течению Сены, и на самом побережье Ла-Манша отныне денно и нощно должна была нестись часовая служба, так, чтобы проскочить незамеченным для врага не было ни малейшей возможности. Между тем, неделя проходила за неделей, а горизонт по-прежнему оставался чистым. Заскучавший от бездеятельности граф Дюнуа, чтобы хоть как-то убить время занимался присмотром за очередным строительством, на сей раз в Лонгевилле, где собирался устроить новую резиденцию для своего многочисленного семейства[69].
|
Французские лазутчики отнюдь не грешили против истины: практически лишив власти несчастного безумца Генриха VI, энергичный и деятельный герцог Йоркский Ричард в самом деле готовился атаковать Гиень, желая наказать французов за их неуместную, по его мнению «наглость». За спиной новоназначенного наместника этой провинции Оливье де Коэтиви, и его доброго приятеля графа Клермонского (которые в скором времени наломают достаточно дров), Ричарду Йоркскому удалось наладить связи с Бордо, где виноградари и виноторговцы, потерявшие при перемене власти богатый английский рынок, с готовностью взялись посодействовать возвращению своих прежних хозяев. Общее недовольство усугублялось своеволием нового наместника и графа Клермонского, пытавшихся заставить жителей Аквитании (как мы помним, получивших временное освобождение от налогов) принять на себя содержание оккупационных войск, которые уже успели прославиться насилиями и грабежом. В Байонне вспыхнул бунт, который, к счастью, удалось подавить в зародыше, но заговор в Бордо продолжал зреть — и непонятно, во что бы в конечном итоге вылилось скрытое противостояние, не случись шпионам дофина (у лисенка всюду были свои глаза и уши!) втереться в доверие к главарям готовившегося возмущения.
Немедленно к стареющему королю полетело письмо, слишком сладко-приторное, чтобы быть искренним. В подчеркнуто-вежливых выражениях, дофин (и в этот раз не отказавший себе в удовольствии поставить отца в глупое положение), предупреждал о надвигающейся опасности. Прочтем это любопытное послание целиком[69].
| |
Могущественнейший сеньор мой, спешу уведомить вас, что до сведения моего дошло, будто огромная английская армия высадилась в Борделé. Ввиду того же, что вы ранее изволили выразить свое недовольство тем, что я не предложил вам свои услуги в деле покорении Нормандии и Борделе, что тем не менее было мною проделано через посредство Этьенна де Бенуа, должного адресоваться доброму кузену нашему де Дюнуа, несмотря на плачевное положение, в каковом в то время обреталась моя персона… Ныне же я отправляю к вам друга, преданного советника и камергера моего сира дю Барри, предлагая вам для того свои услуги, готовясь положить на то имущество, и самую жизнь мою. | |
Сведения полученные из первых рук были точны: английскому флоту удалось обмануть бдительность часовых на берегах Ла-Манша, и резко изменив направление, вместо Нормандии, где их, как мы помним, ожидали, никем не замеченными бросить якоря в Сулаке, неподалеку от Бордо. На французской земле оказалось ни много ни мало — восемь тысяч человек отборного войска, под командованием герцога Тальбота, крепкого восьмидесятилетнего старика, желавшего перед смертью не отказать себе в удовольствии еще раз схлестнуться с французами. Старого герцога сопровождал сын — им обоим увидеть Англию уже не суждено.
23 октября 1452 года английские войска вошли в Бордо, встреченные бурной радостью горожан, вслед за тем за оружие взялись жители других городов и крепостей, французы были изгнаны практически отовсюду, сумев удержать в руках лишь Фронзак, Бур и Блай. В очередной раз завоевания оказывались столь непрочными, и потерять свои недавние приобретения оказывалось куда проще, чем их себе подчинить[69]. Все приходилось начинать сначала.
Вызывать из Нормандии графа Дюнуа уже не было ни времени, ни возможности, тем более, что он в это время должен был мобилизовать все свои силы, чтобы не допустить высадки еще одного воинского отряда, также направленного Йорком — для покорения Северной Франции. Королю пришлось спешно отправить на Юг лучших своих полководцев — Бюея, Руо, Потона де Сентайля, графа де Фуа, Клермона, и конечно же, незаменимых артиллеристов братьев Бюро и присоединившихся к ним генуэзских наемников. Новая армия постепенно собиралась в Монтиле, где на зиму расположился двор, здесь же готовилось для нее продовольствие и снаряжение.
Последнее сражение Столетней войны
|
Дюнуа, понужденный к тому королевским приказом, оставался в Нормандии. Его семейство перебралось в Лонгевилль, поближе к своему главе, тот же, как обычно, не зная отдыха, вместе с Ришмоном и Брезе хлопотал об окончательном обустройстве хозяйства в недавно завоеванной провинции, устанавливал правильное налогообложение, и наконец, от имени своего суверена принимал вассальные клятвы от представителей местных городов и бальяжей. Кроме государственных, ему не давали покоя также семейные проблемы: старший сын — он же бастард Людовик, входил в сложный во все времена отроческий возраст: независимый и своенравный, способный сгоряча наломать любое количество дров, и сделать любую глупость, он становился для родителей источником постоянного беспокойства. Впрочем, к великому счастью для нашего героя, графиня Мария твердой рукой вела огромное хозяйство, удерживая в повиновении армию слуг и строителей, а также в достаточной мере пользовалась уважением детей, включая своевольного бастарда[70].
Между тем, армия Тальбота, вдохновленного первыми успехами, в марте 1453 года пополнилась 4 тысячами латников нового экспедиционного корпуса, а также гасконскими добровольцами. Против него выдвигались беарнцы под командованием графов Клермона и Фуа, причем арьергард возглавлял сам король Карл. Бастард изнывал от волнения и тревоги, вести с Юга запаздывали, дни и недели проходили в полной неизвестности. Радовали только вести с родины: герцог Карл вместе с прочими, переслал ему официальное письмо от капитула в Божанси, тронувшее нашего героя буквально до глубины души. В благодарность за все благодеяния им оказанные — заступничество перед папой и восстановление разрушенных и разграбленных храмов, отныне и навечно, капитул постановил во вторник после Вознесения служить заупокойную мессу во спасение «душ всех родственников графа и графини де Дюнуа, сеньоров де Божанси, доныне усопших, а также во здравие их самих в течение их жизни, и после смерти таковых, за упокой их обеих душ»[71]. Между тем, в середине лета 1453 года уставший и запыленный от долгой дороги посланник наконец-то привез в Руан долгожданное известие о полной победе французского оружия. Проследим за ходом событий.
Итак, 8 июля по совету Жана Бюро был занят город Кастильон. Как и следовало ожидать, Тальбот загорелся идеей немедленно разбить меньшую по числу французскую армию, тем более, что французы и сами искали сражения, начав неспешно двигаться навстречу захватчикам[72]. Известие о приближении французов застало престарелого Тальбота 17 июля 1453 года в захудалой деревушке, по соседству с Кастильоном (современная провинция Дордонь), где он, как и полагалось доброму католику, с утра присутствовал на церковной мессе. Немедленно прервав священника и нарушив размеренный ход богослужения, Тальбот во всеуслышание поклялся, что не вернется к мессе раньше, чем как следует всыплет французским проходимцам. В ярко-алом бархатном сюрко, со знаменем Св. Георгия, на статном боевом жеребце — таким его запомнили в последний раз.
Французы предпочли дожидаться врага на поле по соседству с Кастильоном, Для того, чтобы англичане, жаждущие боя, плотнее завязли в подготовленной ловушке, хитроумный Жак де Шабанн посоветовал командующему отвязать часть лошадей и пустить их вскачь перед французскими позициями. Хитрость удалась в полной мере, поднятая табуном пыль не дала англичанам увидеть изготовившиеся к стрельбе орудия братьев Бюро — залп — и смешавшиеся ряды врага, опешившего от подобной неожиданности — превратились в легкую мишень, спустившиеся с ближайшего холма бретонские войска, неожиданно ударившие на растерявшегося противника, довершили разгром. Англичане оставили на поле этой последней битвы Столетней войны около трех тысяч погибших.
На следующее утро, когда все окончательно стихло, распорядившись об оказании помощи раненым и пересчитав сдавшихся в плен, граф Клермонский распорядился во что бы то ни стало разыскать тело старика Тальбота и его сына, во время боя исчезнувших в никуда. Для опознания был приведен захваченный в плен также престарелый английский герольд, в течение многих лет служивший своему господину верой и правдой. Разыгравшаяся вслед за этим сцена хорошо известна и не единожды описана в литературе, однако, столь драматично-напряжена, что стоит привести ее снова. Итак, исходив вдоль и поперек поле сражения, изрытое конскими копытами и обильно политое кровью, старый герольд остановился возле обезображенного, почти нагого тела, с раскрытым в агонии ртом, в котором не хватало одного из задних зубов, и залился слезами. «Монсеньор и господин мой! — воскликнул старик. — Монсеньор и господин мой, это поистину вы! Молю Бога, дабы от отпустил вам грехи ваши, я более сорока лет воевал, защищая ваш герб, и ныне настало время вам таковой вернуть.» После чего старик совлек с себя табард, украшенный гербом своего господина и бережно накрыл им испачканное грязью и кровью тело.
Несколько дней спустя, перед королем предстал один из оруженосцев графа де Шабанна, принесший весть о славной победе — а заодно и рыцарский шарф поверженного противника, так же найденный на поле боя. Карл VII со вздохом перекрестился: «Упокой Господи душу доброго рыцаря». Быть может, эти простые слова были наилучшей эпитафией доблестному врагу.
Несостоявшийся Крестовый поход
|
19 октября Бордо вновь и уже окончательно оказался под властью французов. В качестве наказания, город принужден был к выплате 100 тыс. золотых экю и лишен привилегий — вплоть до того времени, когда король сменит гнев на милость. Сопротивление французскому владычеству было таким образом подавлено уже окончательно. Желая отблагодарить Господа за столь славную победу, благочестивый Дюнуа и вслед за ним Ришмон распорядились по всей Нормандии устроить торжественные церковные процессии. Разгром англичан в Аквитании надолго или даже навсегда устранял опасность для северных провинций[72].
Длившаяся более ста лет война завершилась. Точнее, завершилась «горячая» ее стадия, так как английские короли в течение еще нескольких поколений категорически отказывались признавать свое поражение, вновь в вновь угрожая Франции войной. Один из таких эпизодов, случившийся двадщать лет спустя после описанных событий (и закончившийся в очередной раз ничем), не без яда описал в своей «Скандальной Хронике.» злоязычный Жан ле Руа. По его словам, Людовик XI (отличный интриган, но никчемный вояка), против которого новый герцог Бургундский Карл безуспешно силился двинуть английские войска, во всеуслышание хвастался тем, что «прогнал бы прочь англичан с куда большей легкостью, чем то сделал ранее его отец — и воистину гнал их взашей к пирогам с дичиной и добрым винам». На самом деле (если перевести с языка памфлета на более нам привычный), Эдуард IV Английский удовольствовался выплатой в 50 тыс. экю и благополучно вернулся к себе, чтобы уже никогда не повторить попытки напасть на французское королевство, значительно усилившееся по сравнению с прежними временами.
Между тем, кроме проблем военного свойства, государство волновали также вопросы веры. 20 мая 1453 года Константинополь сдался под напором османских полчищ, причем одна из величайших святынь христианского мира — Собор Св. Софии был превращен в мусульманскую мечеть. Западный мир бурлил от возмущения, множество голосов, требовавших нового Крестового Похода ради изгнания «неверных» сливалось в единый хор. На короткое время споры между христианскими государями были отставлены, немецкий император адресовал королю Карлу письмо с призывом присоединиться к готовящемуся Крестовому Походу, герцог Бургундский Филипп, также давно вынашивавший подобную идею озаботился отправкой ко двору соответствующего посольства[73]. Источники расходятся между собой в вопросе, насколько наш герой был готов присоединиться к всеобщему воодушевлению; скорее всего следует предположить, что этот глубоко верующий человек, будучи изначально захвачен общим эмоциональным порывом, в скором времени сумел вернуться к своему обычному хладнокровию, и вполне трезво оценить возможные шансы на благополучный исход. Шансы оказались мизерными — в самом деле, западное христианство давно уже не представляло собой единого монолита, подчиняющегося воле римского понтифика. В самой Италии шла бесконечная борьба между городами, сторонниками папы и приверженцами светской власти, Бургундский герцог, в соответствии с донесениями королевских соглядатаев, усиленно переписывался с англичанами, и явно вынашивал против французского короля не слишком дружественные замыслы.
Раздробленность взаимная враждебность между владыками христианского мира не была секретом и для церковных деятелей. Один из самых дальновидных политиков того времени — Энео Сильвио Пикколомини, секретарь императора Фридриха III, в недалеком будущем — папа Римский Пий II, совершенно резонно отмечал в своем письме римскому понтифику:
| |
У христианства нет больше единомыслия… У каждого владения наличествует собственный князь и каждый из князей блюдет свой особенный интерес. У кого хватит красноречия, дабы соединить под единым знаменем столь великое множество владык, разделенных и враждующих между собой?… У кого найдется сил, дабы примирить между собой англичанина и француза, генуэзца и арагонца, немца, венгра и чеха?… Король французский ежечасно вынужден следить на происками англичан, а эти последние жаждут единственно отомстить за свое изгнание. Шотландия, Дания, Швеция и Норвегия, — страны, расположившиеся у края света не желают слышать ни о чем ином, как о внутренних своих делах… Города сражаются князьями, эти последние также не имеют между собой единства. | |
И все же, не теряя надежды на лучшее, 30 сентября 1453 года папа призвал западное христианство к новому Крестовому Походу. Буквально несколькими днями спустя после папской буллы, графа де Дюнуа застал очередной королевский приказ немедленно явиться ко двору. Захватив с собой шумное семейство, воодушевленное перспективой красочного путешествия, Бастард отбыл в Монтиль[72].
Надо сказать, что ко времени его прибытия страсти и страхи постепенно улеглись. Мехмед II, которому было достаточно хлопот в уже бывшей Византийской империи явно не собирался атаковать Европу. Однако, и папа не желал отступать от однажды принятого решения. 1 февраля 1453 года особой буллой он даровал прощение грехов всех, желающим принять участие в новом Крестовом Походе[73]. Европейские государи остались глухи к его призывам. Новая попытка Римского понтифика на Вселенском Соборе в Ратисбонне, 23 апреля 1454 г. призвать христианство объединить свои силы против турецкой угрозы — а заодно и пожертвовать на будущий поход десятую часть своих доходов, также не нашла понимания. Время Крестовых Походов окончательно кануло в Лету, так что единственной реальным откликом на известие о поражении восточного христианства стали модные женские тюрбаны «а-ля тюрк». Как то обычно бывает, реальная трагедия вылилась в фарс.
Герцог Бургундский в качестве последней попытки изменить ситуацию, 17 февраля 1454 года устроил для своих рыцарей пышный банкет, вошедший в историю под именем «Фазаньего пира», где все единодушно — по древнему обычаю над блюдом с жареным фазаном — поклялись не щадить сил для защиты христианской веры. Но и эта клятва осталась пустым сотрясением воздуха, несмотря на то, что к королю был отправлен собственной персоной герольдмейстер Золотого Руна с соответствующим случаю напыщенным посланием. Карл Французский, согласившись с трезвыми доводами Бастарда и прочих советников короны, достаточно холодно выслушал бургундского посла, изо всех сил старавшегося вовлечь Францию в заморскую авантюру уговорами и лестью, столь же мало действия оказало и письмо германского государя, как известно, давно заглядывавшегося на несколько швейцарских городов, которые весьма удобно было бы под шумок присоединить к своим землям. Идея войны против турок провалилась окончательно[74]. Впрочем, вернемся к нашему повествованию.
Заботы мирного времени
|
Мирное время принесло свои заботы и проблемы — а разве бывает иначе?… Мы не знаем, насколько велика была роль нашего Бастарда в сложной законодательной работе, начатой по приказу Карла VII в апреле 1454 года. Т. н. «Великий Ордонанс», который следовало закончить в ближайшие за тем годы, должен был ни много ни мало свести воедино законы и обычаи французского государства, дав всем подданным более-менее единое понятие о праве. Задача воистину невыполнимая — стоит только вспомнить о том, что неписанное право каждого феодального владения, города или земли, складывалось с франкских времен, из множества освященных древностью обычаев, передававшихся изустно, памятью стариков, которых собирали при необходимости вынести серьезное судебное решение, чтобы те вспомнили как то делалось в прежние времена.
Тогдашние острословы шутили, что во Франции законы меняются чаще чем лошади; в самом деле, несмотря на то, что на смежных между собой «землях» более-менее единые условия жизни приводили к сходству (а то и прямой нивелировке древних «кутюмов»), разброс между обычным правом бретонских рыбаков, гасконских виноградарей и пастухов горной Оверни был невероятно велик. Писанные документы можно было пересчитать по пальцам, в частности, среди них можно упомянуть кутюмы Лорри-ан-Гатине, дарованные его обитателям королем Людовиком Толстым, «Большой сборник кутюмов» Нормандии, «Законы Людовика Святого» и т. д. Свести воедино противоречащие друг другу постановления — да и просто изучить их и вынести им вердикт с точки зрения требований текущего момента — это требовало многих лет, и многих поколений юристов. Но работа была начата, конец ей будет положен императором Франции Наполеоном I, который наконец сумеет дать единый закон и единую конституцию для всех без исключения французов. Кроме того, не следовало также забывать об островных соперниках. Англичане по-прежнему желали отплатить за свои недавние поражения, и посему, графу Дюнуа приходилось делить свое время между заседаниями королевского совета, и обучением новой армии, которую следовало постоянно держать в боевой готовности — во избежание любых сюрпризов[74].
Между тем упрямый понтифик, по-прежнему не желавший отказываться от своей мечты, 9 апреля 1454 года посодействовал подписанию в Лоди мирного договора между герцогом Миланским и Венецианской республикой. Папа, втайне надеявшийся, что подобный шаг послужит началом ко всеобщему объединению и миру, жестоко просчитался. Сразу вслед за этим Флоренция, Генуя и Савойя объединились, чтобы противостоять притязаниям орлеанского герцога, а также его анжуйского родственника на итальянские территории, 18 апреля Венеция — о ужас! — заключила мир с «неверными» на условиях уважения ее интересов, Генуя полугодом спустя поспешила последовать ее примеру, в то же время активно интригуя против арагонского короля, покушавшегося на ее сардинские владения. Бургундец, явившийся на церковный собор, по обыкновению, во главе умопомрачительно богатой и пышной свиты, был неприятно поражен тем, что большинство светских государей так и не потрудились прибыть туда сами, или на худой конец, отправить своих представителей. Собор оказался столь малолюдным и жалким, что по необходимости прекратил свою работу, и проформы ради, назначил новый сбор во Франфурте, в октябре текущего года[75].
Французы едва на это обратили внимание: короля Карла занимали куда более срочные дела: очередной гонец прискакавший ко двору принес тревожное известие о подготовке очередной английской армии вторжения. Не теряя времени, Карл призвал к оружию знать Юго-Западных провинций, граф Дюнуа был вновь спешно отправлен в Нормандию, чтобы как в прежние времена, при поддержке Пьера де Брезе поднять местное ополчение. Видимо, это произошло в середине или даже конце лета, как о том свидетельствует подписанное им 24 августа 1454 года распоряжение для королевского казначея выдать Жану Авару, бальи Ко, 74 турских ливра «за доставку королю новостей касательно английской армии, в таковое время обретающейся в море»[75].
Начало осени ознаменовалось пусть частичной, но все же победой упрямого папы Николая V. На Франкфуртском соборе, где в этот раз появились представители французского короля, германского императора, итальянских республик, и наконец, Филиппа Бургундского (который не в состоянии был лично принять участие в столь любезном ему предприятии из-за готовящейся свадьбы сына — графа де Шаролле, в недалеком будущем — герцога Бургундского Карла Смелого). Собор постановил поставить под ружье 30 тыс. пеших и 10 тыс. конных, должных быть собранных во всех христианских государствах Европы, а также, на средства, собранные за счет военной десятины, оснастить мощный флот, должный отстоять Венгрию от притязаний мусульманского владыки. Надо сказать, что это последнее постановление было действительно выполнено, и турецкое нашествие временно остановлено. Впрочем, графу де Дюнуа, продолжавшему оставаться в Нормандии, было не до церковных дел. К великому счастью для Франции, душевнобольной английский король на небольшое время пришел в себя, и не без влияния супруги, отстранил от власти воинственного герцога Йоркского, бредившего реваншем и возобновлением военных действий. Вторжение не состоялось вновь[76].
Посему, несколько успокоившись насчет ближайшего будущего, Бастард, оставив вместо себя Брезе, смог на короткое время покинуть Нормандию, и навестив по пути семью и близких, вновь оказаться при дворе — на сей раз устроившемся на зиму в Меёне[77]. Кочевая жизнь по-видимому, утомляла его и наш герой пользовался малейшей возможностью заглянуть домой к жене и детям, не забывая навестить братьев, и на небольшое время принять у себя тех или иных важных персон, охотно задерживавшихся на несколько дней под гостеприимным кровом графа и графини де Дюнуа. Кроме того, к Жану Орлеанскому безостановочно скакали королевские гонцы, постоянно удерживая его в курсе последних событий. В это же время работа по восстановлению и укреплению государства продолжала идти самым напряженным образом: королевский совет собирался даже по воскресеньям — этим освященным церковью дням отдохновения и покоя!… «Нет никого более, пользующегося столь неограниченным доверием короля Франции, — уведомлял своего господина Миланский посол Раймонд де Морлиани. — Как то следует полагать, наибольшим авторитетом в глазах короля пользуется Орлеанский Бастард»[78]. В самом деле, с молодости не участвующий в придворных интригах, не принадлежащий ни к одному из противоборствующих кланов, всегда уравновешенный и здравомыслящий Жан Орлеанский становился незаменимой фигурой при дворе.
Короткое возвращение домой и жизнь при дворе в отсутствие нашего героя
|
Пока же военная ситуация в очередной раз успокоилась в патовом состоянии, и пользуясь этим коротким затишьем, с разрешения своего сюзерена Бастард поспешил домой. Перепланировка замка Шатоден, которую все это время неутомимо продолжала его супруга, была в самом разгаре, так что Жан Орлеанский с жаром включился в работу. И — наконец-то, первая добрая весть после многих месяцев изматывающих гонок и треволнений — 26 апреля 1455 года город Клери, после длиннейшего бюрократического разбирательства в в суде орлеанского бальи, наконец-то был отдан в вечное владение графу де Дюнуа и его потомкам, в то время как Жан де Лер, также выдвигавший притязание на эти земли, проиграл безвозвратно[79].
Памятуя о своем обете, и о храме Св. Девы Клерийской по-прежнему остававшемся неуютным и разграбленным, Бастард с жаром взялся за дело. Немедленно уволив всех местных архитекторов, он поручил восстановление своему личному зодчему Колену де Валю. Казначеем строительства, несшему, среди прочего, ответственность за поставку необходимых материалов и украшение восстановленного храма, стал один из старых соратников нашего героя по сражениям Столетней войны — Робер де Соссей.
Естественно, строительство подобного масштаба (Клери, Шатоден, замок Божанси!) требовало огромных средств, но здесь на помощь своему другу детства поспешил прийти король. Двумя годами позднее, в 1457 году, Карл прикажет отыскать потерянный в огромной груде документов в королевской Сокровищнице Хартий постановление о даровании Бастарду графства Лонгевилль, еще двумя годам позднее прижимистый монарх (как видно, в качестве исключения), обяжет своему казначею вернуть Жану де Дюнуа 9 тыс. ливров когда-то позаимствованных у него беглым дофином, искавшим убежища в Бурже от происков английского короля. Легенда гласит, что в те времена случилось, что королевский сапожник отказывался без залога принять заказ от собственного господина, опасаясь, что изгнаннику нечем будет его оплатить.
Вернемся. Пока же короля и его совет волновали совсем другие проблемы. Наверное, стоит согласиться, что нет и скорее всего никогда не будет власти, которая всегда и во всех устраивала бы всех. Посему, недавнему победителю в Столетней войне приходилось постоянно быть начеку: в Шербуре сложился заговор, с целью открыть ворота города англичанам, затем то же самое повторилось в Ла-Рошели, И наконец, дофин, благоразумно отодвинутый отцом на задний план не переставал интриговать против него, завязывая переговоры то с савойцами, то с миланцами, с графом Арманьяком, с которым сам же несколькими годами ранее ссорился и воевал, и наконец, с Филиппом Бургундским собственной персоной. В очередной раз вытребованный ко двору Жан де Дюнуа принимал участие в королевском совете, постановившем отправить в качестве посланца к савойскому герцогу Антуана де Шабанна. Целью посланца было в достаточной мере охладить пыл савойцев и надолго отбить у них охоту содействовать интригам наследника. Жан де Дюнуа, собственной рукой написал для посла соответствующие рекомендации, после королевского одобрения, они приобрели силу закона[80].
Сохранившаяся инструкция весьма красноречиво говорит об этом: «Я получил в недавнем времени письма от милого кузена Дюнуа, что вы ранее направили мне, и теперь возвращаю их вам. Мне кажется разумным посоветовать вам проявлять осторожность, вам присущую, как он тоже вам советует посредством своих писем.»[81]
Забегая вперед скажем, что миссия Шабанна провалилась, так как предчувствуя скорую смену власти, савойцы запугать себя не позволили. В это же время граф Арманьяк, сын покойного Бернара VII, оказался замешанным в очередном шумном скандале. Этот буйный вассал, попросту неспособный сдерживать свои полузвериные страсти, умудрился соблазнить собственную сестру Изабеллу, двенадцатью годами его младше, и даже заполучить от нее ребенка (или по другим сведениям — двоих детей). Чтобы придать хотя бы внешний лоск столь откровенному разврату, он состряпал фальшивую папскую буллу, разрешающую подобное сожительство, и более того, вынудил богобоязненного капеллана обвенчать его с сестрой, чей животик уже в третий раз подозрительно округлялся.
Чтобы урезонить буйного вассала, к нему отправлен был граф де ла Марш, однако, посланца встретили выстрелами из арбалетов, и он вынужден был вернуться к своему господину, что называется не солоно хлебавши. Однако, терпение старого короля на сей раз лопнуло окончательно: против Арманьяка была отправлена 24-тысячная армия под руководством графа Клермонского. Не принимая боя, виновный скрылся в Арагоне, однако его преступная супруга и оставшиеся на родине приспешники оказались в королевском плену, все имущество опального графа было конфисковано и присоединено к королевским владениям[81].
Жана Алансонского также не следовало упускать из вида, этот аристократ постоянно уязвленный в своем непомерном тщеславии, который уже в течение двадцати лет плел бесконечные интриги, на сей раз собирался передать англичанам изрядный кусок Нормандии: Донфрон, Ле-Ман и Кан, причем его заверения на Британских островах принимали тем более благосклонно, что мятежный герцог Йоркский, незадолго до того одержавший победу при Сент-Альбане и превративший безумного короля в своего пленника, по сути дела, полноправно властвовал над страной. Впрочем, драматическое «сейчас или никогда, ежели у английского короля по-прежнему остаются интересы в Нормандии», по многим причинам повисло в воздухе: однако, об этой опасности забывать также не следовало.
Окончание эпохи
Новые интриги дофина Людовика
|
Кроме того, в Риме осенью все того же 1455 года тихо скончался старый понтифик Николай V, пришедший на его место папа Каликст деятельно взялся за организацию Крестового Похода против турок — затею, которую, как мы помним, так и не сумел осуществить его предшественник. Планы нового папы были грандиозны: отбросить турецкого султана от Венгрии, создать в Адриатике огромный флот, и наконец, объединить силы всех христианских государей для отпора исламу.
В качестве первого шага для столь далеко идущих планов, папа озаботился тем, чтобы заручиться помощью французского короля. Прекрасно зная, каким образом снискать его расположение, он через посредство очередного посольства дал понять, что теперь-то реабилитации Девы Жанны уже ничто не сможет помешать. 11 июня 1455 года соответствующие бумаги были подписаны и направлены Карлу Французскому, который, в свою очередь устав от бесконечных пустых посулов, которыми так любили грешить предшественники достойного папы, потребовал конкретных действий: в частности, немедленного назначения церковных комиссариев, должных выступить на новом процессе в качестве судей. Если папа и пожалел задним числом о своем решении, путей назад уже не оставалось, и 15 июля санкцию Св. Престола получили Жан Жювеналь дез Юрсен — хроникер короля Карла VI, епископ Парижский Гильом де Шартье, Ришар Оливье, епископ Кутанса, и наконец, Жан Бреаль, должный выступить на процессе в качестве представителя инквизиции[82]. Дело набирало обороты, однако, нашего Бастарда от столь приятных известий отвлекли вновь дипломатические дела.
На сей раз вместе с давним знакомцем — коннетаблем Франции Ришмоном, ему предстояло в середине лета все того же 1455 года отправиться в Савойю, чтобы приструнить тамошнего герцога, откровенно игнорировавшего условия договора с Францией, подписанного тремя годами ранее, и слишком уж рьяно проявлявшего сочувствие опальному наследнику престола. Для того, чтобы савоец стал сговорчивей, на Юго-Западную границу выдвигались войска под командованием Антуана де Шабанна.
Между тем, отношения между отцом и сыном опять заметно обострились, царедворцы, чувствуя скорую смену власти спешили один за другим перебежать на сторону нового государя. В Дофине, под крылышко скользкого наследника престола откровенно переметнулся один из приближенных Пьера де Брезе, как мы можем догадываться сейчас, имея на руках достаточно интересных документов, способных расположить к нему Людовика, так как король-отец, обеспокоенный этим событием, немедленно послал к сыну гонца с приказом выдать перебежчика. Сколь то можно судить из нашего XXI века, миссия эта благополучно провалилась. Окружение старого короля сокращалось, медленно, но совершенно неумолимо, одним из тех немногих, что останется ему верным до самого конца будет наш Бастард. Мы имеем тому подтверждение из первых рук: еще один представитель славной партии искателей теплых местечек, казначей государства Пьер Дориоль со всей доверительностью писал наследнику
| |
Будьте уверены, государь, что монсеньор де Дюнуа, получивший от короля прозвание «морского охотника», вкупе с с монсеньором дю Мэном, чинят вам вред во всем, сколь то в их силах. Однако, птицы, что поют по ночам никоим образом не забыли о вас. Равно к тому, король пишет вам, дабы вы проявляли благоразумие… Благодарение Господу, король находится в весьма добром расположении, и наслаждается добрым же здравием. | |
Между тем, осенью 1455 года королевский двор, повинуясь желанию монарха оказаться поближе к мятежной Савойе, перебрался в Бурбонне, в Сен-Порсен, куда глубокой осенью также вернулись оба посланца, вместе с принцем и принцессой Пьемонтскими. Кроме того, побежденный решительностью графа де Дюнуа и его коллеги, по совету которых во Франции было арестовано (и, видимо, выслано прочь, множество киприотов — соглядатаев Анны Кипрской, скользкой супруги герцога савойского Людовика, тот наконец-то решил пойти на мировую и в декабре 1455 года предстать пред очи французского короля, вновь клятвенно подтвердив постановления договора. Впрочем, с графом де Дюнуа у савойского герцога установились скорее добрые отношения, о чем свидетельствует тот любопытный факт, что в следующем году в обмен на сумму 23 тыс. золотых экю в распоряжение нашего Бастарда перешло богатое баронство Жекс, клином врезающееся между Бургундией и Савойей.
Между тем, наследник, чувствуя, что столь тщательно выстроенная интрига начинает рушиться, в отчаянии писал Жану Алансонскому, моля своего крестного отца не покидать его в беде. Страхи наследника еще возросли, когда до его ушей дошло известие, что старый король, в полном согласии с графом де Дюнуа, канцлером, неизменным Шабанном, и наконец, епископом Кутанским, постановили в ответ на желание наследники обложить пошлиной французскую пшеницу, прибывавшую в Дофине, постановить то же самое касательно товаров, прибывавших из этой провинции. Франция, на сей раз, стояла на пороге торговой войны, однако, старый король и его советники слишком хорошо знали характер наследника престола. Изворотливый и хитрый в том, что касалось подковерной борьбы, он неизменно шел на попятную в прямом противостоянии. Так случилось и на этот раз, так что проблема в очередной раз не сумела состояться[82].
Оправдание Девы Франции
|
Оправдательный процесс Жанны Девы в это время продолжал набирать обороты. 20 декабря 1455 года мать осужденной — Изабелла Роме и оба ее сына — Пьер и Жан, со всей благосклонностью были выслушаны королевскими комиссариями в парижском соборе Нотр-Дам. Огромная толпа, собравшаяся на паперти, так же громко выражала свое сочувствие, и, конечно же, повинуясь «гласу народа», дело приобретало уже неотвратимый характер. 20 декабря 1455 года королевские эмиссары отправились в Домреми, чтобы на месте собрать необходимые сведения, обеляющие Деву Франции. На 22 февраля следующего за тем года был назначен допрос одного из важнейших свидетелей — графа де Дюнуа[83]. Пока же, как стало привычным за многие годы, на рождественские праздники он вернулся домой в Божанси.
Незаметно приближался сложный и полный испытаний 1456 год. Старший сын графа Дюнуа и Изабеллы де Дре — Людовик, Бастард де Дюнуа — вытягивался в статного юношу, на которого (как когда-то на его отца) уже тайком заглядывались местные красотки. Правда, характером он был достаточно своенравен, упрям, и возражений терпеть не желал, отец утешал себя тем, что с возрастом подростковые излишества исчезнут сами собой. Возможно, так бы и случилось на самом деле, кто знает…
Так или иначе, 16-летнего Людовика решено было отправить для получения полноценного образования в Парижский университет — один из старейших и самых прославленных в Европе. За этим решением чувствовались уже веяния Нового Времени; традиционно дворянский сын получал домашнее образование, затем, для обучения военному делу его приставляли в качестве пажа и «благородного слуги» к опытному в военном деле родственнику, или другу семьи, пробыв в подобном статусе несколько лет, и затем приняв рыцарское посвящение, молодой человек полагал свое образование законченным.
Юный Людовик отбыл в Париж, откуда в скором времени пришло страшное известие — студент де Дюнуа погиб на нелепой дуэли от рук одного из своих столичных приятелей. Случилось это в двух шагах от монастыря Белых Мантий, на узкой и темной улице Барбетт, там, где 50 годами ранее был убит его дед — Людовик Орлеанский.
Однако, у великого камергера Франции не было времени, чтобы предаваться личному горю. 22 февраля 1456 года, в глубоком трауре по сыну, граф де Дюнуа вынужден был предстать перед инквизиционной комиссией, должной в скором времени оправдать Жанну, Деву Франции, от обвинений в ереси и колдовстве. Достаточно твердым голосом граф де Дюнуа назвал свое имя, возраст, звание, присягнул на Евангелии в правдивости своих будущих показаний, В полной тишине главного нефа собора в Нойоне, перед Жаном Патеном «викарием инквизиции, призванным к искоренению ереси в королевстве французском», и черным рядом судий — монахов и священников, аристократов в ярких нарядах, свидетелей, кто еще помнил те славные времена, и наконец, затихшей толпой горожан, уверенно звучал голос графа де Дюнуа. Он заявил и секретарь суда скрупулезно записал его показания, таким образом сохранив их для нашего времени, что Жанна по его мнению «была посланницей Божией, направлявшей военные действия божественным наитием, более чем полководческой мыслью.» Толпа завороженно слушала, а он продолжал говорить далее, воскрешая в памяти один за другим славные дни освобождения Орлеана, битвы при Пате, и продвижения к Реймсу, превратившего в «военную прогулку». Он говорил и говорил, и быть может, само недавно пережитое горе смягчалось и отступало прочь под напором этих воспоминаний. Именно ему, Бастарду, и его речи во время этого суда мы обязаны самыми искренними, самыми теплыми воспоминаниями об освободительнице Франции, которая в памяти народной и произведениях многочисленных хронистов уже начинала превращаться из живого человека в символ и миф. Несмотря на внешнюю колкость и насмешливость, Бастард Орлеанский без сомнения, очень тепло относился к новоявленной командующей, и вполне возможно, понимал ее куда глубже, чем мужиковатый Ла Гир или самовлюбленный Жиль де Рэ.
К великому нашему сожалению, речь Бастарда в достаточно скором времени прервали. Церковное правосудие не предусматривало личных воспоминаний, да и случайно вырвавшиеся неосторожные слова могли скорее повредить суду, уже заранее настроенному на вынесение оправдательного приговора. Свидетелям — всем до единого, задавали вопросы в согласии с заранее составленным списком, попытки отойти от него пресекались, да и судий интересовало единственно правоверие и достойное поведение покойной героини. Коротко говоря, процесс, тянувшийся без малого шесть лет (с 1450 года), благополучно завершился, полностью обелив память погибшей а заодно (что собственно и было главным!) подтвердив безусловную законность коронации Карла VII и столь же безусловные права его самого и его потомства на французский престол.
Надо сказать, что этот оправдательный процесс не был первым. В 1443 году адмирал Франции де Коэтиви, по совместительству, как мы помним, зять давно покойного Жиля де Рэ — «Синей Бороды», принялся усиленно хлопотать перед королем об оправдании памяти своего тестя, ставшего, по его мнению жертвой личной ненависти епископа Малеструа (к тому времени также покойного). Надо сказать, что король Франции достаточно охотно откликнулся на эту просьбу. Коэтиви в те времена был его очередным фаворитом, герцог бретонский Франциск представлялся достаточно податливым, чтобы под разговоры о несправедливом присвоении земель покойного барона, отнять у него две ключевых крепости. Однако, по несколько неясным причинам, дело застопорилось. Можно предположить, что при первой же попытке предпринять расследование (а дело было, напомним, всего три года после смерти своенравного барона, и множество свидетелей были еще живы и отлично помнили те времена), на свет божий стали появляться подробности столь скандального характера, что король решил не рисковать. Материалы так никогда и не состоявшегося суда было приказано предать огню, само дело спустить на тормозах и столь же благополучно забыть. Сколь о том можно судить, Бастард, поглощенный в те времена военными заботами, отнесся к так и не состоявшемуся процессу с полным равнодушием.
Арест Жана Алансонского
|
А время продолжало бежать вперед с обычной своей непредсказуемостью. Вскоре после успешного завершения суда, 15 мая 1456 года Бастарду выпала тяжкая необходимость арестовать герцога Жана Алансонского. Этот бывший начальник штаба Жанны, ее «милый герцог», сражался с ним спина к спине во время осады Орлеана, и он же прошел с ним весь путь до Реймса и коронации беглого дофина, и вслед за тем — по дорогам Столетней войны. Впрочем, позднее этот принц крови, племянник коннетабля Франции Ришмона и буйного графа Арманьяка, позднее оказался замешан в бесславно проигранной «Прагерии» — да что там говорить, он был душой этого заговора. Как мы помним, против подобного искуса не устоял и наш Бастард, но если ему хватило благоразумия вовремя отмежеваться от столь провальной затеи, Жан Алансонский шел до конца, и, как и следовало ожидать, был вынужден хлопотать о прощении, и таковое получил. Впрочем, гордого потомка короля Филиппа Смелого это не вразумило.
Жан Алансонский упорно полагал себя недооцененным, недостаточно вознагражденным и несправедливо оттесненным от властной кормушки наглыми выскочками из «нового» дворянства. В самом деле, будучи взят в плен под Вернеем, он вынужден был истратить на выкуп большую часть своего состояния; наследственные владения алансонских герцогов находились в те времена в руках англичан, так что кузен короля вынужден был существовать на придворные подачки, бретонский герцог, воспользовавшись ситуацией, присвоил себе две крепости, относившиеся к наследственным владениям алансонской ветви — и что совсем возмутительно, король не спешил вмешиваться и одаривать своего верного военачальника в том размере, в каком тот сам оценивал свои услуги короне. Коротко говоря, Жан Алансонский устал ждать, и посему решил получить причитающееся от англичан. Затеяв тайную переписку с герцогом Ричардом Йоркским, «протектором Англии», этот бывший военачальник короля Карла, как мы помним, предлагал врагу ни много ни мало, как ключи от трех прибрежных городов (или по иным сведениям — ключи нормандской столицы, вкупе с крепостью Ле-Ман). Для того, чтобы дело выгорело окончательно, предусмотрительный герцог (в обмен на обещание Йорка прислать на континент 6-тысячную армию), приказал тайно отлить тысячу бомбард… и как водится, приготовления подобного объема в тайне удержать не удалось.
Соглядатаи Гильома Кузино, верного слуги нашего Бастарда поспешили уведомить своего непосредственного начальника, а там — по неизбежной цепочке информация дошла до королевских ушей, и гневу Карла VII буквально не было предела. Прошло не так много времени, как герцог Алансонский присягал на процессе Реабилитации, и давал свои показания, стоя бок о бок с нашим Бастардом, перед лицом короля и представителей духовной власти, и чуть ли не на следующий день совершил государственную измену!…
Бастард был настроен куда спокойней. Несомненно, поступок Жана Алансонского был совершенно недопустим — но понять его было можно. Не существует средств, чтобы одним махом изменить сознание всего королевства, и заставить всех приверженцев противоборствующих партий смириться с тем, что прежние времена прошли безвозвратно. Герцог Жан продолжал пребывать в старой закваске, где еще не было государства, народа и иже с ними — но были интересы его лично как принца крови и тесный кружок племянников, братьев и кузенов, которые могли придти к нему на помощь, или наоборот — помешать, безразлично к тому, престол какой страны занимали, и чего желали для себя.
Но как бы то ни было, печальная необходимость арестовать своего старого товарища выпала Жану де Дюнуа. Вручая ему, как главному камергеру короны соответствующий приказ, король не без горечи заметил, что «Мне весьма не по нраву, ежели приходится отправлять под стражу тех, кем мне следовало бы гордиться, вплоть до людей моей собственной крови». Но в данном конкретном случае, ни родственные ни дружественные чувства не могли изменить ситуацию, действовать следовало незамедлительно. Одно из перехваченных писем звучало более чем недвусмысленно: «Ежели он хочет действовать в Нормандии, это следует делать немедля или никогда, ибо с королем рядом остаются разве что Карл Анжуйский, Бастард Орлеанский, граф де Даммартен и кучка низменного нрава людей, каковые им руководят».
Таким образом, ждать было уже нечего, 27 мая, в сопровождении Кузино и Жана де Бурсье, а также 40 копейщиков, направленных для этой цели парижским прево Робером д’Эстурвиллем, Жан Орлеанский направился в Отель Звезды — парижскую резиденцию герцогов Алансонских, где виновник этой ситуации, еще ни о чем не подозревая, беспечно обедал в компании его собственного брата Жана Ангулемского. Все еще не подозревая о готовящемся аресте, герцог Жан радостно приветствовал своего боевого друга, и пригласил разделить трапезу, на что Бастард, со всей вежливостью отказав, сообщил, что вынужден взять его под стражу по приказу короля, при том, что точная причина для подобного решения остается ему неизвестной. Положив руку на плечо Жана Алансонского, он приказал арестованному следовать за ним. Герцог Жан повиновался без единого слова.
Доставленный в Мелён, где его уже ждал коннетабль, должный провести серию допросов, герцог Жан высокомерно отказался отвечать, заявив, что «изложит дело свое королю и никому иному»[84]. Посему, перевезенный в Ноннет в бурбонском герцогстве (где в это время обретался вечно кочующий двор), Жан Алансонский даже не думал отрицать свою вину, упирая на то, что собирался отдать англичанам несколько крепостей вовсе не потому, что злоумышлял против короля, но желал проучить зарвавшегося бретонского герцога, незаконно удерживавшего за собой старинные владения Алансонов. Оправдания подобного рода никого не убедили, и арестованный был отправлен в за решетку — в предельно комфортные, но запертые снаружи апартаменты в замке Эг-Морт[85]. С герцогским саном считаться следовало даже в тюрьме, это неуклонное правило просуществует до самого конца старого порядка во Франции.
Бегство дофина Людовика
|
А между тем оправдательный процесс Девы Франции благополучно шел к своему завершению. Наконец-то после шести лет переговоров и дипломатической борьбы, расследований и допросов, 7 июля 1456 года в 8 часов утра, архиепископ Реймсский в большой зале своего дворца, перед собранием судей «в единстве своем составивших трибунал, памятующий едино о Господе», торжественно объявил Жанну, Деву Франции, чистой и непорочной в глазах всех верующих католиков. Историческая справедливость была, таким образом, восстановлена, и по любопытному совпадению, в том же июле 1456 года Янош Хуньяди, один из величайших полководцев Венгрии, нанес решительное поражение Мехмеду II под стенами Белграда. Турецкое нашествие было надолго остановлено, среди современных историков существует даже мнение, что победа эта по сути своей спасла от полного исчезновения западное христианство. Как бы то ни было, в ознаменование столь славного события папа Каликст приказал повсеместно бить в колокола, и воинский триумф как будто смешался с торжеством французов, праздновавших возвращение доброго имени той, что спасла их от английского господства[84].
Впрочем, дворцовая борьба в это время и не думала затихать: дофин, как мы помним, в течение уже нескольких лет запертый в собственных владениях, под бдительным оком соглядатаев своего отца, в очередной раз обрел голос, рассылая во все стороны более, чем откровенные письма, содержание которых говорило само за себя: «Отец мой правит наихудшим к тому образом, но я намерен в кратчайший срок навести порядок в таковом деле». Как и следовало ожидать, подметные письма полетели всем врагам королевства, опальный дофин искал сближения с Бургундией и Бретанью, и даже с вечным бунтовщиком Сфорца в Неаполитанском королевстве.
Встревоженный король счел за лучшее перебраться в из Буржа в герцогство Бурбонское, вслед за чем приказал отрядам коннетабля, Шабанна и Дюнуа вразумить упрямое дитятко, и если уладить дело не получится мирным способом — унять непокорных с помощью оружия. Дофин не остался в долгу, немедленно приказав «своим подданным» мужского пола от 18 до 56 лет, поголовно встать под ружье ради защиты его персоны. Вновь страна, едва оправившаяся от прошлого стояла на грани гражданской войны — на сей раз между отцом и сыном. Впрочем, отец слишком хорошо знал своего старшего отпрыска, чтобы поддаться на столь примитивный шантаж. Людовик, традиционно сильный в деле подковерной борьбы всегда предпочитал сдать позиции, когда дело доходило до прямого противостояния. Став королем, он еще не раз сумеет продемонстрировать эту свою особенность. В данном случае, королю было достаточно пригрозить бунтовщику лишением наследства, и передачей короны второму сыну — Карлу Беррийскому, как Людовик немедля пошел на попятную и стал заискивать перед оскорбленным отцом, стремясь загладить свою вину. Веры ему уже не было, и как мы убедимся — совершенно справедливо.
Как видно, энергичному наследнику престола наскучило бесконечное ожидание, и в ночь на 30 августа 1456 года, под предлогом охоты Людовик умчался прочь.
Бегство дофина было настолько поспешным, что таковому просто не успели помешать, он же сам, оказавшись в замке Нозеруа, на земле, принадлежавшей Оранским принцам, где он мог чувствовать себя в относительной безопасности, настрочил отцу очередное льстивое послание, в котором, оправдывая себя, писал, что намерен всего лишь «посетить своего милого дядю Бургундского», с которым в скором времени выступит в Крестовый Поход! Впрочем, до Бургундии еще нужно было добраться, и не теряя больше времени, опальный дофин преодолел это расстояние в трехдневный срок, почти без еды и сна, меняя лишь одну за другой взмыленных лошадей.
|
В столице Филиппа Доброго, в Брюгге, 15 октября 1456 года на глазах у ошеломленных придворных разыгралась слащавая сцена, слишком наигранная для того, чтобы оказаться искренней — дядя и племянник упали на колени, и обливаясь слезами, целовали друг другу руки и наконец крепко обнялись. Получив еще более слащавое письмо от беглеца, сообщающее о его желании «некоторое время погостить у дяди Бургундского», старый король со вздохом заметил — и как оказалось, не ошибся: «Кузен Бургундский выкармливает лиса, каковой съест затем его кур!». В самом деле, как мы знаем, интересы французской монархии и интересы вечно бунтующего бургундского герцогства были диаметрально противоположны, и став королем, Людовик заговорит со своим бывшим покровителем совсем по-другому.
Впрочем, это еще в будущем, пока же нашлись горячие головы (надо сказать, ни в какие времена недостатка в них не наблюдается), советовавшие старому королю силой принудить Филиппа Бургундского выдать беглеца. Однако, здравомыслие Бастарда и нескольких друзей, присоединившихся к нему в этом вопросе, взяло верх — стране, едва-едва оправившейся от Столетней войны, при постоянной угрозе со стороны Британских островов, ни при каком раскладе нельзя было ввязываться в очередное вооруженное противостояние. Впрочем, кое-какие меры были все же приняты, король в сопровождению Дюнуа, Мэна, и прочих советников короны перебрался в Гренобль, в то время как посланные им войска заняли Дофине, отрезая, таким образом, опальному дофину путь назад. Заметить вскользь, что подобный расклад, позволил нашему герою вновь на недолгое время вернуть себе потерянную привилегию на часть налогов с этой провинции, о чем свидетельствует сохранившаяся расписка на сумму в 393 флорина, выданная им генеральному казначею провинции Николя Кюлару[86].
Существует мнение, что благодарный король пошел и на вовсе беспрецедентный шаг, своим приказом уравняв Бастарда Орлеанского с принцами королевской крови, тем самым позволив ему и его потомкам в случае, если очередной монарх не оставил бы после себя мужского потомства, претендовать на корону Франции. Впрочем, подобное решение, переворачивающее с ног на голову все обычаи и традиции Средних веков до настоящего времени остается всего лишь — предположением.
Скорее всего, исследователи, придерживающиеся подобной точки зрения вольно или невольно опрокидывают в прошлое события уже следующего, XVI века, когда графство Лонгевилль будет в своем ранге повышено до герцогства, и титул герцога Лонгевилльского получит внук нашего Бастарда — Франциск II де Дюнуа. И окончательно память о незаконном рождении далекого предка будет упразднена в шестом поколении, когда уже официально принцем французской крови будет признан далекий потомок нашего Бастарда — Леонор де Лонгевилль (1540—1573 гг.). Что касается самого нашего героя, то, сколь то можно проследить в документах времени, он никогда не носил титула «светлейшего принца» (как то полагалось бы в согласии с новым рангом), и все бумаги, вплоть до самой смерти неизменно подписывал именем «Жан, Бастард Орлеанский». Во всей этой истории несомненно лишь одно: в 1458 году Генеральными Штатами (собравшимися в этот раз в старинном Орлеане), было зарегистрировано постановление, согласно которому левая перевязь черного цвета (знак незаконного рождения — широкая лента, пересекающая герб по диагонали справа налево), должна была смениться правой перевязью цвета серебра. У потомков нашего Бастарда от перевязи останется, как было уже сказано, маленький четырехугольник посередине щита — последняя память о незаконном рождении их славного предка. Эту перемену для Леонора Орлеанского в 1571 году подтвердит король Карл IX. Впрочем, вернемся.
Бастард с семейством перебирается в новый дом
|
Людовик Французский, слишком деятельный, чтобы оставаться в тени своего дяди — будучи даже изгнанником, неожиданно для себя оказался в шкуре графа де Дюнуа, из раза в раз пытаясь помирить герцога Филиппа и его своенравного наследника. Воистину, фортуна — большая шутница! Кстати сказать, ситуация закончиться столь же бесплодно, и более того, изворотливый гость умудрился вызвать к себе стойкую ненависть молодого принца, которая позднее аукнется королю Людовику XI. Но всему свое время. Пока же он с достаточным комфортом устроился в Женаппе, куда в скором времени прибыла его супруга (король не удерживал ее, чтобы соблюсти видимость приличий — хотя бы для внешнего зрителя). Для дофина в изгнании здесь было устроено некое подобие двора и выделено на содержание 36 тыс. ливров годовых. Без сомнения, Филипп Бургундский ожидал в будущем получить за эти деньги множество милостей от благодарного монарха, который рано или поздно все равно занял бы трон своего отца. Бедняга не знал, с кем связывается… Впрочем, всему свое время[87].
В январе следующего, 1457 года двор перебрался в Турень, причем великого камергера, горевшего желанием хотя бы на короткое время навестить семью — ждал категорический отказ. Внешнеполитическая ситуация требовала его постоянного присутствия: Генуя, на земли которой постоянно заглядывался арагонский король, искала покровительства могущественной соседки, в немецких землях требовалось постоянно оказывать помощь королю Ладисласу — выступавшему соперником и сдерживающей силой для Филиппа Бургундского. Кроме того, королевский совет постоянно должен был заниматься внутренними делами самого королевства: урегулированием налогов и сборов, организацией цехов, ярмарок, организацией горного дела (точнее сказать, добычей свинца, серебра и меди), торговых отношений — а надо сказать, что интересы окрепшей Франции простирались ныне до африканского побережья, и — сколь ни парадоксально звучит для того времени — заботой о развитии науки и образования. Множество высокообразованных греков бежало прочь из Византии, от мусульманского владычества, и Франция широко распахнула двери для ученых и мастеров. Преподавание греческого языка и греческих наук началось в самом Парижском университете; коротко говоря, королевство процветало. Пользуясь этой небольшой передышкой, Жан Орлеанский вновь стал хлопотать об отпуске и наконец-то весной 1457 года получил давно ожидаемое разрешение[88].
Первым решением главы семьи после возвращения домой, было перевезти семью в Шатоден, к этому времени полностью готовый и обустроенный для жизни. Замок Божанси, где все напоминало о погибшем сыне, навевал слишком уж печальные мысли. Графиня Мария, как всегда с полуслова понимавшая мужа, с готовностью взялась за дело. Расходные книги графства упоминают о том, что в новом обиталище семьи резная деревянная мебель (по вкусу и моде того времени), дополнялась покрывалами, гобеленами и наконец, вышитыми подушечками из дорогих голландских, реймсских и парижских тканей. Супруга Бастарда, сколь о том можно судить на материале все тех же расчетных книг, умела одеваться с большим вкусом (чем выгодно дополняла свою не слишком привлекательную от природы внешность), и не менее изысканно одевать детей; обычаи времени требовали, чтобы замужняя дама не появлялась на людях с непокрытой головой, и сундуки графини были заполнены до отказа всякого рода геннинами, чепцами и бурреле, из бархата и шелка, с шитыми золотой нитью цветочными орнаментами. Зато украшений было сравнительно немного: как мы помним, наследство юной графини было не слишком богатым, да и после замужества колец и ожерелий не удалось накопить в достаточном количестве; деньги уходили на военные расходы и на бесконечное строительство, столь любезное сердцу ее супруга.
|
Итак, замок Шатоден, вплоть до нашего времени обретающийся на своем исконном месте, до сих пор во многом сохраняет нам память о быте орлеанского семейства.
Несомненно, что при всех внутренних перестановках, замок Шатоден был и должен был впредь оставаться грозной крепостью, контролирующей пути по Луаре, так что по приказу рачительного хозяина, закуплены были девять больших пушек (установить их следовало в стратегически важных пунктах по периметру стен), к ним большое количество пороха и ядер, а также множество арбалетов и к ним полные колчаны коротких стрел.
Однако внутри посетителю старинного замка открывалось совсем другое зрелище. С внутренней стороны, к донжону примыкал уютный маленький сад (по обычаю времени — надежно скрытый за плетеной изгородью), помещения для прислуги, кухня, где не покладая рук хлопотал графский повар, зычным голосом отдавая приказания своим многочисленным помощникам, кладовая, забитая до отказа свиными и бараньими тушами, дичиной и рыбой — царство главного специалиста по приготовлению мясных блюд, соусов и колбас, и наконец — винный погреб, где распоряжался главный виночерпий. В самом замке, на первом этаже главный зал — огромный и холодный, должен был оставаться в неприкосновенности, как дань традиции, сохранявшейся незыблемой со времен первых франкских королей, небольшая комнатка рядом с ним, сплошь завешенная гобеленами из Брюгге, превратилась в рабочий кабинет хозяина дома.
В маленьких и уютных жилых комнатках наверху Мария и Жан могли дать полную волю своему воображению. Всегда жарко натопленное, залитое светом из высоких решетчатых окон, жилое крыло, было сплошь занавешено цветными коврами. Каждая из комнат в длинной анфиладе жилых помещений имела свой собственный орнаментальный «мотив», так первая из них украшена была вышивкой с изображениями листьев и ягод падуба, две следующие — изображениями голубых незабудок, еще одна — гобеленами из жизни идиллических пастухов и пастушек, и наконец последняя — гобеленами из зеленой саржи, с изображениями зверей и птиц, и охотничьих сцен[89]. Жилое крыло радовало глаз домашним уютом новомодных кресел с мягкими подушками вместо сидений, резными сундучками, постелями под шелковыми балдахинами — столь широкими, что прислуге приходилось прибегать к длинным палкам для выколачивания перин! — резными пюпитрами для чтения и письма, и конечно же, огромной библиотекой. Книги Бастарда Орлеанского в настоящее время обретаются в Национальной Библиотеке Франции; тогда же, чтобы не потеряться в подобном обилии, графскому библиотекарю пришлось составить особый каталог, где «книга о похождениях Жана-Малыша» (новомодный плутовской роман!) «также имеется в наличии, обретаясь во втором ряду»!
Впрочем, сейчас ожидая, пока многочисленное и шумное семейство вместе со слугами и множеством повозок, груженных добром, переберутся на новое место обиталища, Жан Орлеанский коротал время в Божанси и Туре, не желая особенно удаляться от двора, куда его могли обычным порядком, вызвать в любую минуту. Дни проходили в охоте, которой он с обычным азартом предавался вместе с братьями, в дружеских пирушках, и бесконечных разговорах, в которых оба Жана — Ангулемский и Дюнуа, а также старший брат Карл, кажется, просто не знали удержу. Кроме того, постоянного внимания требовало воспитание и образование детей, да и часовня в Клери, где продолжалось строительство, также нуждалась в хозяйском надзоре[90]. В середине лета 1457 года, все еще оставаясь в кругу семьи и домочадцев, Жан Орлеанский узнал о начале английского похода.
Бесславный поход и несостоявшаяся помолвка
|
Надо сказать, что в это время Ричард Йоркский потерпел очередное поражение, и к власти вернулась королева Маргарита, немедленно попросившая помощи французского короля. Карл не оказался глух к несчастьям кузины, и вот уже французский экспедиционный корпус был готов к набегу на Англию.
Без особой охоты подчиняясь королевскому приказу, 20 августа 1457 года Пьер де Брезе со 5 тыс. войска в августе 1457 года высадился в Англии, с налета захватив порт Сандвич (и вместе с тем богатую добычу), чтобы вслед за тем развить наступление вглубь страны, в помощь королеве Маргарите, из последних сил удерживавшей атаки своего соперника. Казалось, история возвращается ко времена пятидесятилетней давности, правда; с точностью до наоборот: теперь Англию раздирала междоусобная война, а французы грабили страну под предлогом «помощи» одной из воюющих сторон. Надо сказать, авантюра эта завершилась столь же бесславно, как и началась, горожане, державшие сторону герцога Йоркского (как когда-то жители Парижа горячо поддерживали бургундца с его лживыми обещаниями!), приняли захватчиков более чем холодно, понимая, что с помощью горстки солдат при враждебном населении в тылу, о дальнейшем наступлении не может быть и речи, Брезе повернул назад. Впрочем, Жан Орлеанский со своим обычным трезвомыслием весьма скептично относился к перспективам данной авантюры, и подобный конец не стал для него неожиданностью.
Между тем, Жан Орлеанский, поддерживавший постоянную переписку со двором, одним из первых узнал о прибытии венгерского посольства. Как мы помним, король Ладислас собирался жениться на Мадлен – младшей и самой красивой из дочерей Карла Французского, и посему собирался лично прибыть ко двору, чтобы здесь со всей полагающейся торжественностью справить помолвку. Посему, ради придания церемонии достаточной пышности и размаха, граф и графиня де Дюнуа в ноябре 1457 года были в очередной раз вытребованы ко двору. Кроме подготовки к роскошной церемонии помолвки а затем и свадьбы, Дюнуа следовало озаботиться еще одной важной новостью: приблизительно в это же время гонец из Бретани, на бумаге с личным гербом коннетабля Франции, уведомил его, что Пьер Бретонский, приходившийся ему племянником, скончался от водянки и обширного паралича, и теперь сам Ришмон как единственный наследник герцогства готов был принести королю подобающую вассальную клятву.
Об этом также следовало не забывать, но пока главного камергера Франции больше занимала подготовка в встрече царственного жениха Мадлен Французской. Посольство, выехавшее из Праги 10 октября 1457 года неторопливо двигалось вперед, и достигло французского Тура лишь двумя месяцами спустя. Французские хронисты одобрительно отмечают, что процессия, растянувшаяся на несколько миль была «великолепнейшей и пышнейшей из всех, какие то знала Франция». В самом деле, в свиту молодого короля венгерского входили ни много ни мало 700 конных, не считая многочисленных придворных дам и прислуги, а также 26 повозок, груженных подарками для будущей невесты и ее родителей. Навстречу венграм, не желая отставать от них в богатстве и блеске, выехали графы де Дюнуа, де ла Марш, де Фуа и де Вандом, а также епископы Тура, Кутанса и Ле-Мана, канцлер королевства Французского и наконец, молодой Филипп Савойский, в это время продолжавший гостить при дворе.
Сам король, преодолевая недомогание, 18 декабря озаботился тем, чтобы лично принять гостей, сидя на блестевшем золотом троне. В Монтиле, где на сей раз устроился двор, посланец короля венгерского со всей полагающейся пышностью обратился к французскому суверену: «Сир король, ты – столп христианства, мой суверенный сеньор, король Ладислас – щит его, ты владеешь христианнейшим домом, мой суверенный сеньор – стена его». Выслушав приветственную речь канцлера, ответившего, как и полагалось по протоколу, вместо своего господина, венгерские послы прошествовали в следующую залу, где ради их прибытия придворные дамы французского двора представили им новомодный по тому времени балет. Затем, прошествовав через сад, венгры подошли к закрытому павильону, двери которого распахнулись перед ними, являя всем взорам французскую королеву и пышно одетую принцессу Мадлен. Если верить хронистам и воспоминаниям того времени, красота юной девочки буквально поразила венгров, так что они готовы были возвратиться к нетерпеливо ожидавшему их Ладисласу с самыми добрыми вестями[90]. Четыре дня спустя здесь же в Туре, в аббатстве Сен-Жюльен граф де Фуа устроил в честь венгерского короля и его посланцев невероятно пышный банкет. Очевидцы этого действа утверждали, что приглашенных, разместившихся за 12 столами ожидало ни много ни мало семь перемен из 140 блюд, причем все они беспременно подавались на серебре, и столь же беспременно с высоких балконов звучала мелодичная музыка. Жан де Дюнуа, разместившийся за одним из столов, угощал и развлекал посланца герцога Австрийского. Грандиозный пир завершился танцами, продлившимися, как и следовало ожидать, до глубокой ночи[91].
Никто не мог ожидать, чем завершится этот праздник, пробудивший во многих высокопоставленных представителях обоих королевств самые радужные надежды на будущее. Никто не мог предвидеть, что свадьбе этой не суждено будет состояться, т.к. несколько дней спустя Франции достигло известие, что юный жених заразился чумой, и угас в возрасте 17 лет. Как обычно бывает в подобных случаях, шептались об отравлении – впрочем, современные исследователи, напрочь отвергая подобную возможность, сходятся на диагнозе – скоротечная лейкемия, или все же бубонная чума. Так или иначе, облачась в траур, венгерские послы печально отбыли прочь, по-рыцарски оставив невесте все, предназначенные для нее дары. У французов были свои тревоги: король Карл был тяжело болен, опасались, что подобное потрясение могло уже окончательно свести его в могилу. Посему, с сообщением тянули до 30 декабря 1457 года, когда наконец, собравшись с духом, Брезе отправился в королевскую резиденцию в Монтиль, чтобы сообщить суверену печальное известие.
Впрочем, наперекор всем опасениям (и немалой досаде наследника), старый король стойко выдержал удар, более того, поднявшись с постели уже 4 января нового 1458 года, он поторопил свой совет с объявлением, согласно которому наследство покойного, а именно герцогство Люксембургское вкупе с городом Тиньонвиллем, оказывалось под опекой французской короны. В самом деле, не следовало питать иллюзий: стоило предоставить эту землю самой себе, как рано или поздно, ей предстояло оказаться в цепких руках Филиппа Бургундского[91].
Приговор Жану Алансонскому
|
На вполне понятное раздражение этого последнего не обратили никакого внимания, и десять дней спустя один из королевских военачальников — Флоке — повинуясь прямому приказу графа де Дюнуа, поднял над Тиньонвиллем королевский штандарт, заодно наводнив спорную территорию войсками. Положение, надо сказать, вновь оказывалось патовым: под руку короля французского перешла половина территории, вторую успели покорить себе бургундцы, однако, на данный момент времени оба соперника предпочитали выжидать, не переходя к прямому военному столкновению.
Пока же, для противопоставления не в меру охочему до земельных приобретений герцогу Филиппу лихорадочно искали нового соперника; выбор на сей раз пал на Вильгельма Саксонского, чья супруга Анна фон Габсбург, имела неоспоримые права на искомые земли. Посему, король официально запросил руку его дочери для своего младшего сына — Карла Беррийского (что должно было одновременно ослабить бургундца и заставить дофина задуматься о своем будущем — в самом деле, отец в любой момент мог лишить его наследства в пользу младшего сына!). Вновь тщательно проинструктированный графом де Дюнуа, в Саксонию отправился Тьерри де Ленонкур. Внешнеполитический аспект таким образом вновь временно остановился в патовой ситуации, ожидая его дальнейшего развития, поднявшийся с одра болезни король мог обратиться к делам внутреннего свойства.
Прошло два года с момента бесславного ареста герцога Жана Алансонского. Процесс готовился неспешно и основательно — судить принца крови могли только пэры Франции — не уступающие ему по рангу, однако для того, чтобы убедить это в достаточной мере скептическое общество, постоянно настороженное против возможного ущемления своих прав — требовались очень серьезные доказательства. Но вот все было готово, и 23 мая 1458 года, королевские гонцы помчались во всех направлениях, унося с собой приказы родственникам царствующего монарха явиться 1 июня того же года в Монтаржи, где арестованный Жан Алансонский должен был наконец предстать перед их судом[92]. На сей раз даже самолюбивый Филипп Бургундский не смог или не захотел отказаться от королевского приглашения — впрочем, если верить официальным источникам, тяжелый бронхит уложил этого уже немолодого человека в постель, заставив вместо себя снарядить для прибытия ко двору доверенную делегацию. Вирус не пощадил и двор — надо сказать, что респираторные заболевания (к счастью, не столь губительные как чума или же холера!) были далеко не редкостью в Средневековой Франции. Так или иначе, процесс пришлось отложить до конца лета.
Пользуясь этой короткой передышкой, наш Бастард поспешил домой, тем более, что король сам изъявил желание навестить Божанси — без парада и помпы, скорее на правах частного человека. Однако, несмотря ни на что, суверен продолжал оставаться сувереном, и принять его следовало в полном соответствии с его рангом. Посему, гонцы спешно понеслись к Карлу Орлеанскому и Жану Ангулемскому, приглашая обоих срочно прибыть в резиденцию младшего брата, заодно одолжив ему в достаточном количестве дорогую посуду из золота и серебра. Об этом визите документы того времени упоминают достаточно скупо: как можно догадаться, король воспользовался этим временем, чтобы в достаточной мере отдохнуть от дел; единственным его решением было уже окончательно определить дату суда над Жаном Алансонским, которая была теперь назначена на 26 августа. С не меньшей решительностью, король отклонил все просьбы о помиловании, с которыми ему докучал Карл Орлеанский, несмотря ни на что сохранявший привязанность к своему неблагодарному зятю. В самом деле, уступить в данный момент значило бы для королевской персоны перечеркнуть всю, старательно выстраивавшуюся в последние годы, систему отношений вассалов и их сюзерена. Процесс должен состояться[93].
26 августа 1458 года, суд над Жаном Алансонским торжественно открылся в Вандомском замке в присутствии суверена, членов королевского совета, и конечно же, камергера королевства графа де Дюнуа. На сей раз от подобной, более чем сомнительной чести герцог Бургундский предпочел уклониться (вас это удивляет, читатель?). Отбросив всякие дипломатические реверансы, прямо объявил своему коронованному сюзерену, что с готовностью явится на судилище… в сопровождении своих солдат — впрочем, после столь недружелюбного ответа, он все же озаботился, чтобы отправить ко двору своих представителей для наблюдения за ходом дела. Герцог бретонский оказался несколько более дипломатичным, щадя королевское самолюбие он обставил свой отказ вполне уважительной по виду причиной: как заинтересованная сторона, удерживавшая земли, на которые открыто претендовал Жан Алансонский, он не мог судить своего противника!… Впрочем, подлинная причина отказов не была секретом для любого современника, умевшего с достаточной ясностью смотреть в будущее: рушилась сама система феодального общества, где каждый более-менее крупный королевский вассал был полным хозяином в своих владениях и мог вести войну и заключать мир с кем и когда ему заблагорассудится. Отныне — и это сохранится вплоть до конца Старого Режима во Франции, любой граф, герцог, барон, сколь могущественен и богат он ни был, вынужден будет считаться с королевской волей даже в пределах своих собственных земель.
Итак, пустующие места пэров Франции пришлось в срочном порядке замещать вельможами двора и высшими духовными лицами. Суд был недолгим, герцог Жан, приведенный из своих тюремных апартаментов, изготовившийся к смерти, и потому не видевший более смысла в запирательстве, признал свою вину. В защиту его поднял голос Карл Орлеанский — быть может, более смелый и прямолинейный чем все прочие здесь присутствующие; быть может также в нем говорили и родственные чувства; как мы помним, обвиняемый приходился ему зятем, кроме того к милосердию короля взывали архиепископ Реймсский и наконец, посланец бургундского герцога Жан Лорфевр. Все прочие, будучи твердо убеждены в том, что король ждет от них смертного приговора, скорее, спешили выслужиться. Для нашего Бастарда, по рангу своему не имевшего права принимать участия в прениях, но вынужденного их организовывать и направлять, как этого требовала должность великого камергера, этот суд был настоящей мукой. В конце концов, даже виновный, даже признанный изменником Жан Алансонский был его боевым товарищем, с которым они делили стол и кров во время самых тягостных военных походов, и бились спина к спине когда сама надежда на победу казалась ускользающей и почти недостижимой. Подобное не забывается, и сейчас Бастард, подавленный и жестоко страдающий был не в силах взглянуть в глаза герцогу Жану. Типичный для Средневековья конфликт между долгом и чувством, множество раз озвученный и сыгранный в бесчисленном количестве пьес сейчас разворачивался в реальной жизни реальных людей.
Но все когда-то заканчивается, и наконец епископ Кутансский взял на себя труд объявить, что пэры Франции признали Жана Алансонского виновным в государственной измене, после чего канцлер огласил от королевского имени приговор суда: «Мы, в согласии с мнением придворных наших, утверждаем и объявляем тебя, Жан Алансонский, виновным в оскорблении величества, и в качестве такового, ты должен быть лишен и ныне лишаешься достоинства пэра и прочих достоинств и прав, и приговариваешься к смертной казни, как того требует правосудие».
Присяга Ришмона и вновь дела семейного свойства
|
Урок своенравным областным династиям таким образом был дан весьма наглядный, и король, как известно, не отличавшийся кровожадностью, счел за лучшее проявить милосердие к поверженному врагу, заменив ему смертную казнь бессрочным заключением. Жан Алансонский прямо из зала суда был препровожден в замок Лош, под надзор сира де Рикарвилля. Он останется там вплоть до смерти старого короля. Занявший престол Людовик XI (быть может, из чувства противоречия, или наоборот — полагая, то опальный герцог для него уже не опасен, или опять же из родственных чувств — как никак осужденный был его воспреемником от купели?) 11 октября 1461 года вернет ему свободу. Впрочем, Жан Алансонский не оценит королевского великодушия, и немедленно присоединится к очередному заговору против короля — т. н. «Лиге общего блага» (у нас разговор о ней пойдет далее), и в очередной раз изобличенный в измене, всеми презираемый, проведет последние годы запертый в своих владениях, и тихо умрет в полном одиночестве. Но сейчас это все еще в будущем, а жизнь шла вперед, как ей, впрочем, и положено.
Как мы помним, в возрасте 39 лет Пьер Бретонский, разбитый обширным параличом отдал Богу душу, оставив после себя единственную незаконнорожденную девочку по имени Жанна. Опустевший престол одного из крупнейших герцогств на севере Франции должен был таким образом отойти к младшему из братьев Монфоров — коннетаблю Франции Ришмону, прекрасно знакомому нам по этим страницам. Ему предстоит прожить всего лишь год, но пока об этом еще никто не знает. В качестве нового герцога бретонского Ришмон, как и следовало по обычаю, предстал перед королем Франции и его великим камергером, чтобы дать клятву верности за герцогство бретонское. Вскользь заметим, что эта пышная церемония состоялась все в том же замке Вандом, в той же зале, где незадолго до этого был осужден Жан Алансонский. Но вернемся[86].
На осторожный вопрос, желает ли он, удовольствовавшись своим новым рангом, оставить должность коннетабля Франции, старый солдат ответил с обычной прямотой: «Желаю, чтобы то, что в молодости составило мне славу (то есть меч коннетабля — прим. переводчика), прославило также мою старость.» Вслед за этим, в общем-то формальным, вопросом, вокруг нового герцога бретонского началась привычная игра: Бастард, специально для того вытребованный ко двору должен был в очередной раз — хотя бы попытаться, получить от нового бретонского герцога «большую вассальную клятву».
Со своим обычным трезвомыслием, понимая практическую провальность подобной затеи, Жан де Дюнуа тем не менее начал свою обычную речь, предшествующую обряду: «Монсеньор Бретонский, отныне вы становитесь человеком короля и моего суверенного сеньора, и приносите ему большую присягу за ваше герцогство бретонское, клянясь ему в верности, обещаясь служить против всех, равно живых так и умерших…»
Дальше новый герцог слушать не стал. Отступив прочь от графа д‘Э и бальи Турского, которые уже приближались, чтобы принять у него пояс (ибо, как мы помним, большая присяга давалась на коленях и без оружия), положив руку на холодную рукоятку меча, он не без раздражения заявил, что готов присягать лишь в том, в чем присягали его предки, и не более того. Король невольно улыбнулся. Удивляться было нечему, эта игра затевалась далеко не в первый раз, и всегда оканчивалась одним и тем же результатом. «Это его право, — благодушно согласился король — Он знает, что делает, так что в таковом вопросе положимся полностью на него». Тронутый королевским благородством, коннетабль отстегнул меч и тяжело опустился на колени. «В любом случае, монсеньор, я обязан вам большой клятвой за графство Монфор л’Амори и готов принести ее также за Нофль-ле-Шатель» (два владения, расположенных в пределах королевских владений).
Таким образом, дело решилось компромиссом, к большому недовольству королевских юристов, на которое сюзерен предпочел не обратить внимания. Правда, ему пришлось поставить своего верного камергера в глупое положение… но что поделаешь, большая политика, как и все прочее требует жертв!… Дюнуа был слишком умен, чтобы принять близко к сердцу подобную обиду.
Нашему герою исполнилось шестьдесят лет, но он был все еще крепок, деятелен, и отнюдь не равнодушен к женским чарам. Как видно, пословица «седина в голову, бес в ребро», приложима не только для России, так как в Бастарде словно проснулись гены его отца, и старея, он все больше входил во вкус любовных приключений на стороне. Супруга, его верная Мария, в молодости, как мы помним, бывшая пухленькой и аппетитной, после четырех родов расплылась в безобразную квашню, неповоротливую и страдавшую одышкой… в особенности эта неприятная перемена подействовала на ее лицо, придав ему вид отечный и нездоровый. Таким образом, любовной тяги супруга вызвать не могла никак, при том, что несмотря на все похождения (которые она стоически терпела, и делала вид, что не замечает), наш герой продолжал высоко ценить ее ум, ее тактичность, ее незлобливый характер. Они проживут душа в душу до самой смерти.
В это же время великий камергер Франции оказался втянутым в еще один процесс, на сей раз семейного свойства. Надо сказать, что еще в далеком 1419 году Жан Ларшевек, родной брат бабушки его супруги, как видно, воспользовавшись старостью и немощью сестры, благополучно присвоил себе несколько богатых поместий (завещанных законной владелицей своей внучке — Марии). Из длинного списка особенно выделялось Партене, уже за него стоило побороться всеми законными методами. Впрочем, дело осложнялось тем, что Ларшевек недолго сумел удержать награбленное: земли эти, конфискованные у него Карлом VI за некую провинность, давным-давно успели перекочевать к бретонскому герцогу, и вот теперь Жан Орлеанский, на правах законного супруга их владелицы требовал утерянную собственность. Король, к которому, была обращена просьба, уступил достаточно легко, памятуя «о многолетней и верной службе», своего камергера, однако новые владельцы и слышать не хотели о подобном, несмотря на то, что король лично пообещал выплатить им соответствующую компенсацию. Дело плавно перетекло в суд, и пройдет немало времени, пока решение не будет наконец принято в пользу графа де Дюнуа[94].
Смена поколений
|
Пока же дела королевства, и в особенности внешняя политика продолжала требовать к себе постоянного пристального внимания. В эти годы, последние для короля Карла VII Жан Орлеанский был поглощен делами как никогда ранее, не пропуская ни одного заседания королевского совета, ни одной новости, равно из внешних так и внутренних источников.
В Италии Фердинанд Арагонский продолжал цепко удерживать за собой неаполитанский престол, несмотря на постоянные притязания анжуйских герцогов. В Англии пылала гражданская война между несчастной королевой Маргаритой, пытавшейся отстоять права своего безумного супруга, и Ричардом Йоркским. В затянувшемся споре за Люксембург Филиппу Бургундскому противостоял Вильгельм Саксонский, как мы помним, женатый на Анне фон Габсбург, по матери — герцогине Люксембургской. Борьба эта тянулась уже долго, и наконец зашла в тупик; саксонец, понимая, что не сможет добиться своего и в то же время не желая чрезмерного усиления соперника, 2 января 1459 года отправил посольство к французскому двору, получившее аудиенцию 3 марта того же года. Через посредство своих послов саксонец уступал свои «права» Карлу Французскому, среди предков которого была Бонна Люксембургская, супруга дофина Иоанна (будущего короля Иоанна II Доброго) в обмен на сумму 50 тыс. золотых экю.
|
Перспектива присоединения Люксембурга представлялась в достаточной мере соблазнительной, резкие протесты Филиппа Бургундского в расчет не принимались, дофин, продолжавший «гостить» при его дворе, предпочел занять выжидательную позицию — тем более, что несмотря на многочисленные предложения горячих голов, которых во все времена было предостаточно, король не собирался лишать наследства своего мятежного отпрыска. О причинах подобного можно только гадать — быть может, старый монарх не питал иллюзий касательно своего младшего сына Карла, понимая, что тот совершенно не способен к управлению, или быть может, боялся ввергнуть Францию, едва-едва пришедшую в себя после окончания столетнего противостояния в очередную войну, на сей раз гражданскую? Нам не дано о том знать. Как бы то ни было, бургундцу приходилось действовать в одиночестве: обеспокоенный тем, что вожделенное герцогство ускользает из рук, он поспешил направить ко двору французского монарха очередное посольство, со всей дипломатичной вежливостью принятое Карлом и его верным камергером — графом де Дюнуа 3 марта 1459 года[95].
7 марта — в Монбазане, бургундские послы получили ответы на оба вопроса, заданные ими французской короне. Ситуация складывалась как в навязшей в зубах шутке — представляя собой одновременно хорошую и плохую для них новости. Хорошей можно было назвать то, что король по-прежнему желал возвращения мятежного отпрыска, прилюдно обещая принять его «со всей лаской и милостью», плохой — то, что бургундские протесты против присоединения Люксембурга были отклонены, а постаревшему «великому герцогу Запада», недвусмысленно объявлено, что договоры между Францией и Саксонией касаются лишь их самих. Место опечаленных бургундцев почти немедленно заняли посланцы саксонского герцога, и к удовлетворению обеих договаривающихся сторон, 20 марта сделка была окончательно скреплена. Дождавшись окончания затянувшихся переговоров, Бастард наконец-то мог вернуться к семье, заждавшейся отца и мужа. В это время он даже несколько отдаляется от двора, видимо полагая, что уже достаточно послужил стране, и наступает время большую часть своего досуга посвятить семье и поместьям, как обычно, требующим хозяйского присмотра. В это время Шатоденский замок дополнительно укрепляется — граф Дюнуа приказывает установить у главных ворот пять новых пушек и заказывает еще четыре на королевском литейном дворе. Война с Англией, похоже, закончена, но кто поручится за будущее? Желая полностью обезопасить будущее своих детей, он распоряжается закупить огромное количество пороха и других боеприпасов, а также доспехов и холодного оружия — все это в огромном количестве сносится в нижние помещения замка.
Между тем, младшему сыну Франциску, которому, как мы помним, достанется продолжить род славных графов де Дюнуа, уже исполнилось пятнадцать лет. Мальчик выбирает для себя карьеру военного — к полному удовлетворению отца, который становится вслед за этим его первым учителем в столь непростом деле[96]. Свое внезапно освободившееся время наш герой коротает за чтением, охотой, отдыхом в семейном кругу, и наконец, присутствием на церковных мессах, где место рядом со своим супругом неизменно занимает постаревшая, но по-прежнему деятельная и полная сил графиня Мария. В декабре 1459 года обновленная часовня в Клери наконец-то открыла свои двери первым паломникам. Как то было привычно для архитектуры того времени, центральную колонну здания украшали две ангельские фигуры, причем правая из них держала щит с геральдическими знаками Жана де Дюнуа, левая же — блазон его супруги. Между тем, строительство продолжается, на очереди здание коллежа, которое несколько задерживается из-за недостатка средств[97]. Опять же забегая вперед, скажем, что графу и графине де Дюнуа не будет суждено увидеть окончание своих трудов. Строительство церкви в Клери в 1472 году завершит их младший сын — Франциск, который также уступит эту землю новому монарху — Людовику XI[80].
Впрочем, король также не забывает о своем любимце. 1 января 1460 году, Карл Французский дарит ему бриллиант, стоимостью в 20 экю — имеющий форму воздушного змея: когда-то, еще в ранней юности Карл VII увидел во сне подобного «змея, лежащего на земле», и с тех пор считал этот символ своим личным талисманом.
Новогодние праздники вместе с графом и его семьей встречают в этот раз многочисленные гости: Луи д’Аркур, патриарх Иерусалимский — кузен графини Марии, Маргарита Орлеанская, единокровная сестра нашего героя, ее сын Франциск, а также их многочисленные слуги и свита. Веселое и шумное празднество внезапно прерывается, когда Шатодена достигает очередной гонец с печальной вестью: в Нанте, столице Бретонского герцогства, скоропостижно скончался Артюр де Ришмон, успевший лишь в течение года с небольшим пробыть в роли правителя этой обширной земли. Посему, двадцатипятилетний Франциск, племянник нашего Бастарда, непосредственно здесь, в замке Шатоден, торжественно провозглашается новым герцогом Бретонским. Трудно сказать, какие чувства испытал наш Бастард при подобных известиях. Уходили один за другим его старые боевые товарищи, с которыми перевидено и переговорено было немало, однако, смена внушала надежды: новый герцог был человеком умным и решительным, а опыт придет со временем, об этом наш герой мог судить с большей уверенностью чем кто бы то ни было.
Последняя страница
|
Итак, со стороны могло показаться, что нашего героя ждет уютная старость в кругу семьи, и окружении верных друзей, среди которых выделялся Пьер де Брезе, с которым с прежних времен наш герой был почти неразлучен, а также старший брат — семидесятилетний, но по-прежнему крепкий и полный сил Карл Орлеанский, неустанно баловавший младшего, посылая книги для его библиотеки, из-за чего скромное поначалу собрание в замке Шатоден значительно разрослось, и наряду с богословскими трудами значительно пополнилось романами рыцарского цикла, к которым оба брата питали немалую слабость[98].
Добавим к тому, что наш деятельный герой, закончив одно строительство, немедленно увлекся другим: церковь в Клери, даже обновленная и перестроенная, просто не могла вместить вместе с семьей и друзьями огромной свиты графа де Дюнуа, а также множества паломников — посему, обсудив вопрос с супругой и своим личным архитектором Коленом дю Валем, Бастард загорелся идеей выстроить в своих землях Св. Капеллу, использовав в в качестве образца великолепные Капеллы Св. Людовика в Венсене и Бурже[98].
Однако, если наш герой продолжал питать иллюзии, что политика оставит его в покое, он в этом вопросе жестоко обманывался. Если в Италии молодой герцог Калабрийский — внук давно покойной королевы Иоланды, усилил свое влияние на Геную, и вновь подумывал о завоевании Неаполитанского королевства, однако, вслед за своим дедом и прадедом, бездарно упустил время, чтобы реализовать свои мечты. В Англии королева Маргарита, уже несколько лет служившая гарантом шаткого мира, потерпела жестокое поражение от йоркистов, ее безумный супруг попал в плен к своему сопернику. Из лондонского Тауэра выйти живым ему уже не суждено[99]. Новый король Чехии — Иржи Подебрад (точнее, стоявший за ним Филипп Бургундский) вновь пытался наложить руку на ускользающее от него герцогство Люксембургское, при том, что его притязания вызывали резкое неприятие у всех слоев местного населения. В довершение всех бед, французский король старел и постепенно терял силы, наступление скорого конца уже ни для кого не было секретом; один за другим, желая сохранить свое место и влияние, придворные без шума вступали в переписку с опальным дофином, сама фаворитка короля Антуанетта де Меньеле, поддерживала с ним постоянную связь, передавая, можно сказать из первых рук, сведения о здоровье и самочувствии своего царственного возлюбленного[95]. В середине лета 1460 года ненадолго посетив Шинон, Бастард обнаружил монарха совершенно обессиленным, согнувшимся под тяжестью лет, и тем не менее не желающим признавать свое поражение в Европе. В конце концов, Франция была вновь богата, сильна, обладала лучшей на континенте армией, и уже потому приписывать себе победу врагам было весьма преждевременно[99]. Впрочем, еще какое-то время ему позволили наслаждаться семейным уютом, однако весной следующего 1461 года главный камергер королевства был в очередной раз срочно вызван ко двору.
Вместе с епископом Кутанским и своим верным другом Пьером де Брезе ему довелось присутствовать на очередном заседании королевского совета, где решался вопрос начала войны с непокорной Чехией, и конечно же, со стоящим у нее за спиной герцогом Бургундским. Несмотря на то, что Бастард — и не только он один — резко возражал против подобной авантюры — непродуманной и неподготовленной, с более чем мизерными шансами на успех, король, не желая более ничего слушать, приказал Пьеру де Брезе во главе 20-тысячной армии высадился в английском Уэльсе, чтобы таким образом поддержать королеву Маргариту, а заодно помешать англичанам прийти на помощь своему давнему союзнику. В качестве второго шага, Бастард должен был занять Артуа, отрезая таким образом Филиппу Бургундскому возможность прийти на помощь чехам[100].
В июне 1461 года, чувствуя приближение смерти, король приказал перевезти себя в Меён, город, с которым было связано много добрых воспоминаний. Приказ был выполнен, и вскоре после того, здоровье монарха резко ухудшилось. В начале июля королю удалили зуб, при чем так неудачно, что, по всей видимости, началось заражение крови. Жестокое воспаление охватило рот и горло, суверен с огромным трудом мог проглотить немного пищи, врачи перед королевской болезнью оказались бессильны. Психическое состояние монарха также не внушало оптимизма, со времени бегства старшего сына им владел навязчивый страх перед ядом, превратившийся теперь в настоящую манию. Удалив от себя всех, кроме верного Антуана де Шабанна и пожилого духовника, король агонизировал.
Понимая, что отцу осталось уже недолго, младший сын короля, Карл Беррийский, 15 июля 1461 года срочно созвал Совет (заседавший под его управлением в Бурже) в последней попытке примирить короля со старшим сыном, кроме того, по предложению Дюнуа, также присутствовавшему при этом важнейшем событии, принято было решение распустить войска, достигшие уже пикардийской границы. Отсюда 20 июля 1461 года в бургундский Женапп срочно полетело известие, что королю осталось жить считанные дни, а быть может, даже часы. Не теряя времени, дофин вскочил на коня, и в скором времени, из французского Авена к гостеприимному Филиппу Бургундскому отправилось очередное послание. Оно сохранилось, читается оно следующим образом:
| |
Дражайший и возлюбленнейший наш, до нас дошли множественные известия о монсеньоре <т.е. короле, - Прим. переводчика>, из каковых безусловно следует, что надежды более нет… Посему ежели вам случиться узнать, что он отдал Богу душу, мы просим вас незамедлительно седлать коня и вкупе с вашими людьми, одетыми соответствующим к тому образом, незамедлительно прибыть к нам в Реймс, к ступенькам [собора]. | |
Предчувствия не обманули мятежного сына. 22 июля 1461 года 58-летний король в жестоких мучениях испустил дух на руках верного Шабанна. Последними словами умирающего были «Господь отомстит за мою смерть». Толковать их пытались на множество ладов, но догадки так и остались догадками.
Во Франции начиналась новая эпоха — эпоха Людовика XI.
Новое царствование
Король умер…
|
Последней волей умирающего, организация похорон препоручалась графу де Дюнуа, немедленно вызванный ко двору, он уже несколько часов спустя после произошедшего, явился в Меён — к телу своего господина. Времени терять не следовало, и едва лишь отдохнув с дороги, Жан Орлеанский вновь вскочил в седло, чтобы отбыть в столицу и там заняться необходимыми приготовлениями[101]. Как и требовалось по обычаю, набальзамированное тело старого короля должно было быть похоронено в Сен-Дени, рядом с могилами его предков. Однако, ввиду того, что смерть застала монарха вдали от его столицы, лишь 27 июля траурный кортеж начал медленное движение от Меёна к Парижу. Восковое изображение усопшего в короне, со скипетром в правой руке, в полном королевском облачении, двигалось впереди на повозке, в которую запряжена была четверка лошадей, вслед за тем, на траурных носилках следовало тело старого короля. В течение всего пути, продолжавшегося в течение восьми дней, в почетном эскорте рядом с телом двигались Карл Орлеанский и Жан Ангулемский — и вместе с ними комендант Орлеана де Гокур (которому давно перевалило за 80 лет), Антуан д’Обюссон и многие другие.
5 августа неспешно движущийся кортеж достиг городка Нотр-Дам-де-Шамп — это была последняя остановка перед въездом в Париж, и последняя возможность для людей и лошадей как следует отдохнуть перед началом долгой и в тягостной церемонии похорон. Здесь, в Нотр-Дам, опять же, в полном согласии с обычаем, их ожидал Великий камергер Франции, облачившийся в тяжелое одеяние из черного бархата, подбитое драгоценным мехом горностая. На следующее утро, после ранней мессы, кортеж двинулся вновь, достигнув наконец парижского острова Сите, где в соборе Нотр-Дам их уже ожидал Луи д’Аркур, как мы помним, носивший титул патриарха Иерусалимского. Ему выпала траурная честь служить обедню за упокой души короля, после чего похвальную речь над гробом усопшего монарха произнес бывший ректор Университета, а ныне каноник собора Тома де Курсель.
Не слишком приятная подробность — этот более чем добросовестный священнослужитель когда-то содействовал Кошону в проведении процесса Жанны, и даже хлопотал о том, чтобы подвергнуть подсудимую пытке — ну конечно же, во имя спасения ее души. Как известно, ходатайство это успеха не имело, однако, честно отбыв свою миссию до конца, Курсель в дальнейшем помог Кошону перевести материалы процесса на чистый и грамматически верный латинский язык — для представления в Рим, или, по необходимости, европейским государям. Перевод этот уцелел до нашего времени. Много позднее Курсель, несколько удивленный тем, какой поворот приняло все дело, в качестве свидетеля присутствовал на Оправдательном Процессе, но «за давностью лет» умудрился «забыть» все не слишком приятные подробности, в особенности те, что представляли его самого в невыгодном свете. Но — прошлое осталось в прошлом, и теперь почтенный клирик с высоты амвона в прочувствованной речи восхвалял великие достоинства усопшего. К счастью, всему когда-то приходит конец, и 5 августа в три часа дня траурный кортеж вновь двинулся в путь — по улицам города, запруженным толпой любопытных горожан, тем не менее с полной искренностью оплакивавших своего короля — вплоть до аббатства Сен-Дени, где было уже все подготовлено для церемонии похорон. Процессию возглавляли трое братьев — Карл Орлеанский, совершенно поседевший, но все еще крепкий и прямой, исхудавший, болезненный Жан Ангулемский, и наконец, наш Бастард в полном облачении камергера короны, с наброшенным сверху траурным черным плащом и жезлом главнокомандующего, в знак скорби опущенным к земле, за ними следовало 2 тыс. человек королевской свиты и представителей всех городов страны[102].
У свежей могилы, готовой принять гроб с телом усопшего, герольдмейстер по обычаю, сломал свой жезл, и бросив его обломки поверх гроба, опущенного на дно глубокой ямы, громким голосом возгласил: «Молитесь за душу превосходнейшего, могущественнейшего и победоноснейшего принца, короля Карла — седьмого этого имени!» И далее — выдержав подобающую случаю паузу, не менее торжественно возгласил: «Да здравствует король! Да здравствует король Людовик — одиннадцатый этого имени!» после чего голос герольдмейстера утонул в многочисленных криках, возглашающих здравицу новому монарху. Король умер — король продолжает жить. Умер человек, но титул вечен…
Поминальный ужин, опять же по обычаю, сервированный монахами здесь же, на территории аббатства — но за счет королевской казны, отличался обычной в таких случаях пышностью. Как то часто бывает, печальное настроение длилось недолго, и когда вино развязало языки, и вокруг стола начались оживленные разговоры, понеслись смешки и скользкие шутки, лишь один человек среди этого — несколько лихорадочного веселья, по-прежнему казался задумчивым и мрачным.
«Мессиры, — обронил граф де Дюнуа, — я и вместе со мной все прочие монаршии слуги ныне потеряли своего господина. Пусть же каждый вспомнит о себе, и пусть каждый ныне позаботиться о собственном благополучии!»
Как обычно, здравомыслящий Бастард не питал иллюзий: не раз и не два случалось, что после смерти прежнего короля, новый полностью менял состав своего совета, попросту выставляя за двери тех, кто верой и правдой служил его предшественнику. Прекрасно зная характер наследника, Бастард был заранее готов к тому, его придворная карьера закончена уже навсегда. Ну что же, провести остаток дней в кругу семьи, рядом с любящей супругой и подросшими детьми, закончить строительство в Клери, взять на себя многочисленные хозяйственные дела, которыми постоянно было заняться некогда по причине постоянных разъездов и срочных вызовов? Сама по себе перспектива смотрелась неплохо. Другое дело, что Бастард не мог не видеть, как один за другим уходят люди его поколения, друзья его детства и юности, сам король — бывший на два года младше его самого… и неизбежные мысли о скорой смерти сами собой тревожили сознание…
Впрочем, пока что приходилось просто ждать — приезда нового монарха, церемонии коронации, на которой хочешь-не хочешь приходилось присутствовать, и в дальнейшем — как повернутся обстоятельства. По окончании заупокойных церемоний, Бастард попрощавшись с присутствующими, в сопровождении единственно своей свиты, вернулся в Париж в Богемский отель, памятный ему с детства, и приготовился ждать, коротая время за чтением любимых книг и прогулок по городу.
Да здравствует король!…
|
Тем временем дофин — точнее, уже король Франции Людовик XI, в бургундском Женаппе, получив долгожданную весть о смерти отца, приказал отслужить полагающуюся обычаем поминальную мессу, после чего немедля заказал себе красно-белое коронационное одеяние и шаперон тех же цветов, не смог отказать себе в удовольствии вместе с несколькими приближенными отправиться на охоту.
Дофин мог торжествовать — долгое ожидание, и постоянный страх, угнетавший его в последние месяцы жизни родителя, наконец-то остались позади. На следующий день к молодому королю во французском Авене присоединился пышный кортеж Филиппа Бургундского — да по чести говоря, целая армия — блистающая не только нарядами, но и свеженачищенными латами, копьями, и арбалетами… так что приличия ради, Людовику пришлось упрашивать своего союзника сократить ее до 500 человек.
По-прежнему коротавший время в Париже граф де Дюнуа, как и следовало ожидать, в скором времени получил приглашение прибыть на церемонию коронации в Реймс, и далее — ничуть не удивившись происходящему, узнал, что уже восемь дней спустя после смерти прежнего монарха, от службы удален в полном составе его совет, причем в качестве замены ушедшим назначены немногочисленные бургундцы и несколько прежних любимцев опального дофина, сохранившие ему верность во время изгнания. Чему тут было удивляться?… Впрочем, не довольствуясь этим, новый король принялся отменять распоряжения своего предшественника — в частности, свободу и полное восстановление в правах получили Жан Алансонский (приговоренный, как мы помним, к пожизненному заключение), граф Арманьяк — опять же, как мы помним, умудрившийся во время óно, подделав папскую буллу жениться на собственной сестре, и даже заполучить от нее ребенка… и несколько подобных же персонажей. Впрочем, новый король позаботился назначить вдовий удел в 50 тыс. экю годовой выплаты для своей матери — королевы Марии (она умрет два года спустя), а также выделить в удел младшему брату герцогство Беррийское, вернувшееся к короне после бездетной смерти прежнего владельца, а также приказал отслужить полагающуюся по обычаю заупокойную мессу по отцу — в соборе все того же Авена, где в то время находился[103].
Пока же радовался происходящему единственно Филипп Бургундский, льстя себя надеждой получить из рук благодарного монарха земли и почести, а там чем черт не шутит… исполнить мечту своего отца и деда — собственное королевство?… Бургундец мог тешить себя иллюзиями сколько угодно, кто же был виноват, если он до сих пор не сумел как следует разобраться в характере своего гостя? В самом деле, услуги, оказанные беглому дофину, для могущественного государя и владыки своей страны уже не имели никакого значения. Как то уже бывало в истории не раз, старого и умудренного жизнью интригана обвел вокруг пальца зеленый мальчишка; впрочем, герцогу Филиппу еще предстоит об этом узнать.
Пока же он чувствовал себя триумфатором, 15 августа 1461 года удостоившись невиданной чести — увенчать голову помазанника Божьего тяжелой короной из чистого золота, усыпанной бриллиантами и рубинами — под нескончаемые здравицы и крики «Монжуа и Сен-Дени!», в то время, как наш Бастард, занявший кресло пэра Франции вместо Карла Орлеанского (отговорившегося от подобной чести под предлогом старости и плохого самочувствия), рядом с герцогом Жаном Бурбонским, графами Э, Ангулемским и Неверским, удостоился не меньшей милости, помогая новому королю облачиться поверх нижней рубашки, принявшей на себя помазание св. миром в котту из ярко-алого шелка.
31 августа, при всеобщих криках ликования, новый монарх вступил в Париж, где уже начиналось нескончаемое уличное гуляние, которому предстояло тянуться весь день и всю ночь до самого утра. Из многочисленных фонтанов лилось вино, бычьи, свиные и бараньи туши жарились прямо на улицах, длинные столы буквально ломились от снеди, и любой, к какому сословию бы он не принадлежал мог в этот день угощаться вдосталь. Дюнуа, как и полагалось обычаем, двигался в составе королевской свиты, но уже мысленно давно попрощался и со двором и со всякими мыслями о политике. Отныне, как он полагал, его уделом становились дом и семья. Забегая вперед, скажем, что Жан Орлеанский ошибся в этом в очередной раз. Но обо всем по порядку.
Что касается нового короля, не выдержав до конца длиннейшего ужина, устроенного в его честь, под предлогом усталости удалился прочь, представляя гостям веселиться самим по себе. Злые языки уверяли, что переодевшись в простое платье Людовик, дождавшись темноты, отправился в квартал красных фонарей; однако, скорее всего это не больше чем сплетня. Эта хладнокровная и трезвомыслящая личность относилась к тому классу людей, для кого власть значит больше чем богатство, почести и все женщины на свете вместе взятые. Скорее всего, запершись в своих покоях, король уже тогда продумывал свои дальнейшие шаги в новой политике — от которой в скором времени у многих захватит дух.
Надо сказать, что все коронационные торжества оплатил из своей казны Филипп Бургундский. Король (отличавшийся некоторой скупостью — как и его отец), благосклонно позволил ему это сделать — вслед за чем герцог был более чем неприятно удивлен, когда от него потребовали полной вассальной присяги за герцогство Бургундское. Как мы помним, Карл VII вынужден был освободить герцога Филиппа от этой обязанности — во имя мира с Бургундией и объединения против общего врага. Однако, те времена прошли, а новый монарх вовсе не был обязан соблюдать волю своего предшественника.
Что касается Бастарда, тот, не питая ровным счетом никаких иллюзий, касательно будущей политики Людовика XI, 19 сентября без всякой пышности и помпы он поспешил принести ему полагающуюся по обычаю присягу за графство Лонгевилль, после чего выхлопотал для себя право удалиться от двора в Турень, где его уже с нетерпением ожидало семейство. Разрешение было дано, однако, если наш Бастард полагал, что его оставят в покое — он был совершенно неправ. Прагматичный и расчетливый король вовсе не собирался терять умелого полководца и тонкого дипломата, которого отлично помнил по событиям прошедшей войны.
Новая политика нового властелина
|
Бургундский хроникер Шастелен полагает, что уже перед отъездом король уведомил графа де Дюнуа, чтобы тот в скором времени ждал его к себе с визитом, в Турень, «каковая без остатка полонила его сердце». Неизвестно, принял ли Дюнуа подобные слова всерьез, однако, в скором времени убедился, что у короля они не расходятся с делом[104]. 4 октября гонец принес в замок Шатоден весть, что «доброму кузену де Дюнуа» требуется подготовить все необходимое к визиту, короля, намеренного посетить его с малой свитой, без всякой помпы и пышности. Нельзя сказать, что наш Бастард был в восторге от подобного известия, но приличия требовалось соблюсти. Посему к визиту короля был подготовлен пышный обед из дичи и выловленных в ближайшей реке угрей – полагавшихся деликатесной (или как тогда выражались «королевской») рыбой. Надо сказать, что король отдал должное искусству графского повара, однако, занятый облизыванием пальцев, перепачканных рыбным соусом, не удостоил ни единым словом графиню де Дюнуа, обратившуюся к нему с учтивой речью. Действительно, застольные (и не только) манеры нового короля оставляли желать лучшего, новый властелин уехал прочь, пробыв в гостях всего несколько часов. Впрочем, стоит заметить, что он не забыл своего обета, как мы помним, принесенного во время осады Дьеппа. По пути в Шатоден, он нашел время завернуть в обожаемый Бастардом Клери, и помолившись у статуи Св. Девы и отдав себя под ее покровительство, приказал освободить этот городок, «сельский по виду, лишенный оборонительных стен», от всех и всяческих королевских налогов[104].
Гость и его вежливый хозяин, конечно же, говорили о политике. Затронули тему Англии, Италии, где Миланский герцог все более укрепляя свое влияние, не оставлял мысли под шумок присоединить к своим владениям многострадальное графство Асти. Чтобы помешать его планам герцог Карл уговаривал брата вновь отправиться в Италию – впрочем, Бастард и сам был не против подобного путешествия, желая по пути посетить с инспекцией свои владения в Дофине и Савойе. Оставалось дождаться лишь весны – и монаршего соизволения. Король, веселый и благодушный, дал согласие на все, и удалился прочь, так и не объявив об истинной цели своего визита[104].
Нашему герою оставалось только недоумевать. Без сомнения, король появился не просто так и не ради вежливости – однако этот новый властелин, вгонявший в шок представителей аристократии старой закваски своим простым полотняным платьем, украшенным... латунными ярлычками, получившими, впрочем, церковное благословение, окруживший себя «выскочками» из мелкого дворянства, а и то вовсе личностями малопонятного происхождения – все же не собирался оставлять в покое столь ценного сотрудника, «виновного» (если можно так выразиться) только в том, что в течение многих лет прежний король сохранял приязненное к нему отношение.
Впрочем, деятельная натура нашего Бастарда не терпела длительного бездействия. Оставив пустопорожние гадания, вместе со своим архитектором, он с головой окунулся в увлекательный процесс составления планов и смет для будущего строительства. Однако, заниматься этим ему оставалось недолго, 12 октября или восемь дней спустя после визита нового государя, королевский гонец принес уже бывшему великому камергеру приказ немедленно явиться в Тур, к королю. Конечно же, наш герой повиновался, но этот визит лишь умножил его недоумение. Двор, как и следовало ожидать, изменился до неузнаваемости – веселый и шумный, блещущий нарядами, каким он был при покойном монархе, в настоящее время скорее напоминал канцелярию, или некий делопроизводственный центр, где вовсю шла молчаливая работа над множеством бумаг. Прежних аристократов и военных сменили мелкие дворяне, или попросту буржуа, поднятые из ничтожества королевской волей, и посему столь же полностью зависимые от милости нового монарха.
Из прежних на своем месте оказался только Карл Мэнский – родной дядя короля, по-прежнему деятельный и полный идей. Все прочие встретили Бастарда с неприкрытой враждебностью, да и сам король, подробно выспросиа его о направлениях дипломатической работы последних лет правления его отца, а также о делах военного характера, отправил прочь, ни о чем не посоветовавшись, и ничего не поручив. Гордость нашего Бастарда была в достаточной мере задета подобным пренебрежением, однако же, для внешнего зрителя Жан Орлеанский сумел сохранить свое невозмутимое достоинство. Уже вернувшись, он узнает, что оба его друга и верных служителя прежнего короля – Пьер де Брезе и Антуан де Шабанн 19 ноября того же года отправятся в тюрьму – злопамятный Людовик не простил им того, что в противостоянии отца и сына, оба предпочли остаться на стороне первого, так что можно сказать, что наш герой во многом дешево отделался.
Новое царствование начиналось на тревожной ноте. Еще во многом неопытный король, желая во что бы то ни стало расположить к себе народ за счет высшего дворянства, в результате настроил против себя всех: желая облегчить участь низших классов, и тем самым снискать для себя народную любовь, он пожелал заменить прежние налоги единым годичным сбором, причем сумма, необходимая для уплаты была значительно уменьшена, в результате казна через короткое время оказалась в критическом положении, и монарх вынужден был вернуться к прежнему, вызвав против себя нешуточное негодование[105]. С другой стороны, его попытки вмешиваться в дела крупных феодалов, поступая с ними и их детьми едино по собственному капризу, вызвали против него гнев знати. В частности, он взялся обустраивать свадьбы детей высших служителей трона, не разбирая ни возраста, ни желаний женихов, невест, а также их многочисленных семейств – так он, в приказном порядке, потребовал от второго сына герцога Бурбонского жениться на дочери Карла Орлеанского, затем столь же внезапно передумав, приказал расторгнуть помолвку без всяких объяснений. Жан Орлеанский из своей дали молча наблюдал за королевскими эксцессами, хотя уже ни для кого не было секретом, к чему это в конце концов приведет [106].
Отношения нового короля с церковью также не рисовались в слишком радужном свете: 19 ноября все того же 1461 года, Людовик своей властью отменил Прагматическую санкцию, когда-то с немалым трудом добытую для страны великой королевой Иоландой – только для того, чтобы получить папскую поддержку в своей итальянской политике, о которой у нас сейчас пойдет речь. Забегая вперед отметим, что не добившись желаемого, он два года спустя отменит собственное же решение, и ситуация опять вернется к первоначальной, вызвав на сей раз нешуточное недовольство римской курии[105]. Затем он снова отменит ее, и вновь вернется к прежнему в угоду сиюминутным требованиям текущей политики, которые будет рассматривать как воплощение «выгоды» для подвластной ему страны.
Вопросы внешней политики и общественное мнение о новом властелине
|
С высоты нашего времени, оглядываясь на прошлое, можно все же утверждать, что несмотря на свою более чем сомнительную нравственность, любовь к плетению всякого рода интриг, и метания в разные стороны, эта малопривлекательная личность объективно действовала в интересах Франции, по сути дела, завершая «собирание земель» в единых пределах, под рукой единого властелина — дело, которое доведет до полного логического конца его далекий потомок и тезка — Людовик XIV. Другое дело, что по в виду полной неопытности в делах правления новый монарх действовал чересчур напористо, не считаясь ни с кем и ни с чем, что в конечном итоге, выходило ему же боком.
В частности, настоящий скандал вызвало высокомерное королевское заявление в ответ профессорам университета, пришедшим, по обычаю, чтобы засвидетельствовать новому властелину свое почтение, а заодно и добиться от него новых привилегий и свобод: «Вы, дрянные и никчемные людишки, вы содержите при себе жирных и грязных шлюх, и кормите их из своих доходов! Идите отсюда прочь! Вы не стоите того, чтобы я имел с вами дело!» Позднее, набравшись опыта и в достаточной мере искусившись в тонкостях правления, Людовик научится сдерживать свои эмоции, но пока он вызывал только всеобщее… скажем так, недоумение, причем особенно тревожным для начала нового правления было открытое недовольство старой знати, потерявшей привычные почести и доходы, так что особенно смелые из этих отставленных прямо заявляли, что новый король «не их круга!». Впрочем, у еще неопытного короля хватает ума и хитрости стравливать своих врагов между собой — таким образом ему удастся на три года оттянуть неизбежную войну. Но вернемся к нашему рассказу.
В январе следующего 1462 года король Людовик со всей помпой принимал своего нового союзника — миланского герцога Сфорца, и вместе с тем в склонной к интригам королевской голове уже зрел план покорения Генуи и Савоны. Впрочем, чтобы обезопасить себя с тыла, следовало полностью нейтрализовать английскую угрозу — иначе говоря, отобрать у островитян Кале, последнее владение, еще остававшееся у них на континенте. Для столь сложного дела требовались опытные военачальники, посему из тюрьмы был срочно выпущен Пьер де Брезе, тут же восстановленный во всех своих должностях и званиях, вместе с ним сделать первый ход на этой новой шахматной доске должен был, как вы уже догадались, наш Бастард [107]. Пока же, готовя его будущую миссию, король пообещал помощь изгнанной королеве Маргарите, которая после бегства из Лондона от узурпатора герцога Йорка, занявшего опустевший трон, обосновалась в Шотландии. В обмен на эту помощь королева должна была дать клятвенное обещание уступить французам Кале и на следующие сто лет заключить перемирие с этой страной. Удовлетворившись этим, Людовик перешел к следующим шагам.
К Бастарду Орлеанскому был срочно направлен гонец, и тот, несколько смешавшийся от неожиданности, получил от нового монарха распоряжение вместе со своим добрым другом Пьером де Брезе, 25 марта 1462 года отправиться в Брюссель к герцогу Филиппу, чтобы заключить с ним оборонительный и наступательный альянс против йоркистов (как мы помним, угрожавшим власти, а то и самой жизни несчастного безумца Генриха VI Английского), а заодно и о том, чтобы вернуться королевству последний оплот англичан во Франции — порт и крепость Кале. Бастард повиновался, но предприятие это — совершенно неподготовленное и непродуманное, благополучно провалилось. Положим, юный граф Шаролле, сын герцога Филиппа и будущий Карл Смелый Бургундский, немедленно загорелся идеей и даже изъявил желание собственнолично возглавить собравшиеся для наступления войска — его отец отнесся к подобному предложению без особого интереса. Трудно сказать, было ли тому основой уязвленное самолюбие и досада за несбывшиеся надежды в отношении нового властелина, или же расчетливый герцог Филипп не желал окончательно портить отношения со своими важнейшими торговыми партнерами — послы вынуждены были удалиться, так и не добившись от изворотливого бургундца ни положительного ни отрицательного ответа.
По пути им предстояло узнать еще одну не слишком приятную весть: новый король, желая заручиться поддержкой папы в своих далеко идущих планах, касающихся Северной Италии, вновь был готов отменить, принятую своим предшественником Прагматическую Санкцию, и вновь, как было ранее, отдать французскую церковь в полную власть Рима. Вместо этой весьма чувствительной потери молодой король собирался отнять у Арагона Руссильонское графство, и опять же — увеличивая размеры своего королевства — за 400 тыс. золотых экю получить у бургундца все территории и крепости, отошедшие к нему по Аррасскому договору.
Пройдет еще какое-то время, когда Бастард и его новый властелин — пусть не без споров и трений, сумеют найти общий язык между собой. Пока же их отношения оставались в достаточной мере натянутыми. По возвращении из Брюсселя, Бастард, исполняя давнюю просьбу от старшего брата вновь отправился в Италию, где ему предстояло провести инспекцию должностных лиц в графстве Асти (как мы помним, бывшим когда-то приданым Валентины), а заодно и укрепить стены тамошних городов и замков, а при необходимости, принять меру к их устроению по последнему слову фортификационной науки.
Вновь Италия и драма в семье Бастарда
|
Как мы помним, Бастард весьма холодно относился к самой идее распространить власть Орлеанского дома на Аппенинский полуостров, а уж тем более — подчинить себе Милан (совершенно недостижимую мечту, с которой, однако, ни в коем случае не желал расставаться герцог Карл). Кроме того, с первым путешествием в Италию у нашего героя были связаны весьма недобрые воспоминания — здесь он серьезно подорвал свое здоровье, да если говорить начистоту — и вовсе чудом остался жив. Однако, Бастард не привык спорить. Вместе с секретарем старшего — Жаном де Лафонтеном, он в скором времени обосновался в Асти, где занялся текущими хозяйственными делами.
Король, у которого, как обычно, запросили соизволения, дал его весьма охотно — и даже поручил проверенному дипломату еще одну миссию, правда, несколько деликатного свойства. Как мы уже знаем, король задумал ни много ни мало, как наложить руку на Геную и Савону, для чего искал дружбы с Франческо Сфорца — «покровителем» Милана и Генуи, одним из тех авантюристов, готовым продать свои услуги тому, кто больше заплатит, каких в те времена в немалом количестве породила Италия. Именно с этим незаменимым человеком, согласно королевской воле, следовало договориться Бастарду, и что за беда, если этим ущемлялись и права анжуйского дома на те же земли (не забудем, что к семейству анжуйских герцогов принадлежала мать Людовика, королева Мария!), а заодно и права Карла Орлеанского, против которого волей-неволей должен был действовать таким образом Бастард.
Коротко говоря, король своим приказом ставил его в скверное положение, Бастард практически оказывался между двух огней — между королевской волей, с одной стороны и интересами собственной семьи с другой, причем герцог Карл, уже прослышавший о подобных маневрах, и о том, что король тайным образом принял у себя посланника Сфорца — Альберико Малетту, не имея возможности прямо обвинять коронованного двурушника, громко требовал суда над итальянцами, которые, как он заявлял, пытались его отравить. Коронованный циник, ничуть не смутившись тем, что его откровенно грязные махинации выплыли на свет божий, ответствовал на них в привычной ему манере: «Отравленный, дряхлый, а жену обрюхатил!» Естественно, он не знает сейчас, что этот будущий ребенок когда-то сменит на троне Франции его собственного сына.
Что касается Бастарда, который и без того понимал, что его пытаются использовать в качестве пешки в самых грязных целях, принял мужественное решение положить конец этим играм — пусть даже под угрозой опалы — когда ему удалось узнать, что в качестве «секретного дополнения» к договору, король намеревается подарить Сфорца графство Асти — то самое, ради которого он ехал в Италию! Бастард поспешил направить к брату Лафонтена за инструкциями и деньгами, и кроме того заключить союз с савойским герцогом, также встревоженным возросшими аппетитами ломбардского авантюриста.
| |
Монсеньор, - писал старшему брату Бастард 29 июня, - Мне известно о пребывании короля в Блуа. Извольте ныне уведомить меня, случилось ли ему с вами говорить касательно приобретения вашего графства Асти, и ежели да, каковой ответ вы ему на это дали, и каковым же образом расстались. Прошу также, чтобы никто кроме вас самих не прочел сего письма. | |
Ответ старшего брата на это письмо не сохранился, или еще не найден; известно лишь, что Лафонтен в скором времени вернулся, везя с собой достаточную сумму денег, чтобы водворить в ключевых крепостях сильные гарнизоны. Таким образом, спорное графство вновь удалось отстоять, после чего, отговорившись болезнью супруги (что, кстати говоря, соответствовало истине), Бастард направил королю свои глубочайшие извинения, и поспешил вернуться домой.
По пути он ненадолго задержался в Арле, в гостях у маркиза Понт-а-Муассон, сына своего давнего приятеля и соратника по оружию — Рене Анжуйского. Сюда же к нему срочно прибыла супруга, несмотря на недомогание, вынужденная подняться с постели. Повод был достаточно серьезным: старшая дочь нашей пары, названная, как мы помним, в честь матери Марией, и готовившаяся примерно в это время принять монашеский постриг, неожиданно передумала и умудрилась сбежать прочь с Бастардом Бурбонским. Жан Орлеанский, самозабвенно любивший своих детей, был по-настоящему потрясен этой выходкой; здесь же, во власти эмоций, 3 октября 1462 года, он приказал вызвать к себе нотариуса и составить завещание, в котором своенравная дочь лишалась всякой надежды на наследство. Вслед за мужем, подобное распоряжение подписала Мария-старшая. Впрочем, возмущение обоих супругов мгновенно улетучилось, когда по возвращению в Шатоден, они обнаружили там беглянку, раскаявшуюся и тихую. Мир в семье был восстановлен, правда в скором времени выяснилось, что Мария-младшая уже успела забеременеть от своего любовника. Ох уж эта беспокойная отцовская кровь!… К счастью скандал удалось замять, однако, эта малоприятная история, как видно, сгубила здоровье супруги нашего героя. В ноябре она окончательно слегла; гоня от себя прочь дурные предчувствия, желая снискать по отношению к больной Божью милость, Бастард лихорадочно заканчивал строительство и украшение новой церкви[108].
Отвлекшись от домашних дел нашего героя, вернемся ненадолго ко двору. Людовик, раздосадованный провалом столь блестящего по его мнению плана, прилюдно назвал Бастарда словами, которые на русский язык можно очень приблизительно перевести как «удельный предатель». Попросту говоря, в вину Жану де Дюнуа ставилось, что он не желает жертвовать собой и интересами своей семьи ради удовлетворения королевских амбиций, и что особенно возмутительно, не позволяет себя обмануть. Наш герой в ответ также не стал молчать, холодно указав королю, что предпочтет отставку необходимости действовать против воли как собственной, так и семейной. Эту обиду королю придется проглотить — опытный дипломат, де Дюнуа, ему необходим. Впрочем, о новом короле не стоит говорить только плохое, изворотливый интриган, в январе 1463 года он уже успел присоединить к Франции графство Руссильонское, а также за 400 тыс. полновесных экю вернуть стране крепости на Сомме, когда-то в согласии с буквой Аррасского договора уступленные его отцом Бургундии[108].
Война Лиги
Зреющий заговор
|
Пока же, Бастард, вновь временно отставленный от дел, отправляется в гости к племяннику — Франциску Бретонскому. Как мы помним, это сын его единокровной сестры Маргариты, когда-то выданной замуж за младшего из детей Жана V — Ришара. Ввиду того, что Ришмон не оставил после себя сыновей, этот молодой принц сейчас занимает престол бретонского герцогства. Позднее дочь этого неприметного персонажа — Анна, дважды станет королевой Франции, после смерти первого супруга Карла VIII, немедля выйдя замуж за его преемника. Она же оставит после себя один из самых удивительных по красоте и изяществу манускриптов, т. н. «Большой часослов». Однако, все это пока что в будущем. Пока Жан де Дюнуа, 62-летний, с заметной проседью и глубокими морщинами на лице, но все еще крепкий, деятельный (и даже привлекающий к себе заинтересованные женские взгляды), вместе с сыном и близким другом — Жаном де Савез, в феврале 1464 года ненадолго задерживается в Блуа, у Карла Орлеанского, где в достаточной мере узнает последние новости, а также слушает горькие жалобы старшего против короля Людовика.
Герцог Бурбонский, незадолго до того пожелавший засвидетельствовать новому монарху свое почтение был им принят более чем холодно, герцог Калабрийский также не скрывал озлобленности против Людовика, из-за интриг которого вожделенное королевство Неаполитанское вновь уплыло у соискателя из-под носа. В Бретонском Ренне Бастард вынужден был слушать не менее горькие жалобы Франциска на непрестанное королевское вмешательство в дела его герцогства. В частности, король против всех обычаев, желает непременно управлять выборами епископов и должностных лиц, буквально навязывая бретонцам своих ставленников… не закончится ли это открытым неповиновением — стоит лишь вспомнить недавние волнения в Реймсе и Анжере, а также прямое неповиновение королевской воле со стороны Генеральных Штатов Лангедока и Нормандии? Жан де Дюнуа дипломатично отмалчивается, не спеша отвечать племяннику. Слишком уж активно Франциск Бретонский ищет дружбы с англичанами… Как всегда трезвомыслящий и несколько скептически настроенный Бастард испытывает двойственные чувства. С одной стороны он понимает, что лишь объединенная Франция, с единым главой и единой армией способна сопротивляться аппетитам соседей, с другой — на карту поставлена система, существовавшая в течение сотен лет, интересы его собственной семьи и не только. Бастард не может не видеть, как против короля — слишком нетерпеливого и тираничного в своих устремлениях складывается грозная коалиция. Этой опасности скоро предстоит явиться в полную силу.
Почти каждому из высших сановников есть за что упрекнуть своего нового господина: у Жана Бурбонского он отнял управление Гиенью, у Гастона де Фуа (верного слуги его отца, пришедшего на помощь Буржскому изгнаннику) приказал отнять часть его земель, причем, как водится, не стал утруждать себя объяснениями, Жан Анжуйский (как было уже сказано) был раздражен тем, что королевство Неаполитанское, которое он упорно считал своим (хотя его отец и дед безуспешно пытались его завоевать) — король предпочел отдать во владение своему любимцу Сфорца, Арманьяк, незадолго до того сумевший вырваться из Бастилии, имевший к королю давние счеты, не менее охотно присоединился к зреющему заговору. Карл Орлеанский также был не слишком расположен к своему сюзерену, думаю, читатель, вам уже не надо объяснять почему. И вся эта огромная сила сейчас объединялась вокруг нерешительного, но властолюбивого, жаждущего для себя короны младшего брата Людовика — герцога Карла Беррийского. Случайно или не случайно оказавшийся в это время в Сомюре, этот младший сын короля был недоволен «нищенским» по его мнению содержанием в 18 тыс. экю в год, выделенных для него старшим братом. Шабанн, также сумевший 11 марта 1464 года совершить побег из Бастилии, и, как несложно догадаться, жаждущий мести, присоединяется к королевскому брату, сюда же в Сомюр, съезжаются недовольные своим сувереном представители крупнейших феодальных семей, и здесь на этом первом по времени заседании будущих главарей мятежа, присутствует Жан де Дюнуа, вместе с сыном и племянником поспешивший навстречу младшему брату короля. Впрочем, в отличие от всех остальных, он предпочитает дипломатично отмолчаться.
Наверное, наш герой не мог не подумать о том, как повторяется история, и заговор, когда-то устроенный высшей знатью против Карла VII по тем же причинам, и с той же последовательностью возобновляется вновь. Будущие мятежники на сей раз присвоят себе имя «Лиги общего блага», хотя благо будет предусмотрено, ясное дело, только для ее участников. Для всех остальных это будет обычная феодальная грызня с убийствами, насилием и грабежом, и не все ли равно под чьим знаменем и для чего это будет происходить?…
Нам неизвестно, насколько Дюнуа был реально замешан в дела заговорщиков — но зная его характер — трезвый, и достаточно скептический, стоит предположить, что он скорее пытался, встречаясь с участниками Лиги по одному, отговорить их от скоропалительной затеи. В особенности его тревожило то, что к зреющему заговору примкнул герцог Бургундский (точнее, его сын — Карл де Шаролле, но ситуации это не меняло). Становилось ясно, что бургундец ищет возможности взять реванш — потворствовать ему в этом Жан Орлеанский, как вы понимаете, не желал категорически. Посему, он предпочел достаточно резко прервать визит, и вернуться домой.
Смерть графини Марии
|
Здесь его ждали добрые вести: Мария-старшая, в последние дни почувствовав себя значительно лучше, поднялась с постели и занялась хозяйственными хлопотами. Строительство капеллы также шло к концу, пора было подумать об украшении и наполнении ее драгоценными предметами культа.
Между тем шпионы короля неутомимо докладывали своему господину, что Бастард побывал у брата в Блуа…в Ренне… в Сомюре… его сопровождает племянник, Оде д’Эйди, канцлер Бретани, и наконец, пара-тройка доверенных лиц герцога Беррийского. Для короля не требовалось иных доказательств — Орлеанский дом также присоединился к заговору. Решение было категоричным, выслушивать доводы противоположной стороны отнюдь не требовалось. В качестве наказания король распорядился забрать у Жана де Дюнуа сеньории Партене, Вуван, Мерван, Секондиньи, Саблер, Ле Кудре, и Шателейон. Надо признаться, что на отсутствие аппетита коронованный деспот отнюдь не жаловался. Дополнительную подлость подобной королевской выходке придавало то, что земли эти принадлежали супруге Бастарда, Марии, которая в это время вновь слегла в постель, подняться с которой ей уже не суждено.
Новость об этой новой королевской выходке застала Дюнуа после возвращения с охоты, и возможно, стала последней каплей, положившей предел его терпению. Отныне королевские страхи сбывались: Орлеанский дом был готов присоединиться к заговору против короны. Впрочем, наш Бастард еще не знает, что Бургундия и Бретань заключили между собой секретный наступательный и оборонительный союз, к которому (вы удивлены, читатель?) немедленно присоединилась йоркисткая Англия, как всегда готовая половить рыбку в мутной воде, несмотря на то, что в апреле все того же 1464 года между обеими странами было заключено очередное перемирие, необходимое для возобновления торговли[109].
Измученная тяжелой болезнью, уже не поднимавшаяся с постели Мария де Дюнуа узнав, что едва показавшись дома, он уже спешит на открытие бретонских Генеральных Штатов, которое должно было состояться в августе того же года в Нанте, категорически настояла на том, что будет его сопровождать. Надо сказать, что собрание это должно было стать последней попыткой примирить короля и его врагов, и не допустить во Франции новой гражданской войны, которую только и ждали на другой стороне Ла-Манша. Любящая и умная женщина понимала, как нужна ее поддержка супругу в этой действительно критический момент — но переоценила свои силы. В какой-то момент ее состояние ухудшилось настолько, что дорогу пришлось прервать, и спешно доставить умирающую в ближайший на пути замок — Шузе. Здесь после короткой агонии, верная жена Бастарда, прожившая вместе с ним более тридцати лет в любви и согласии испустила дух. Рядом с постелью умирающей стояли ее дети — Франциск, Катерина, Мария.
Бастард, далеко опередивший неспешно движущийся кортеж супруги, 23 августа уже сумел достичь бретонского Нанта, где Генеральные Штаты герцогства, признав полный провал начавшихся переговоров, высказались за войну против собственного монарха, и с полным единодушием вотировали соответствующие налоги. Впрочем, войска мятежников собирались достаточно медленно, до начала активных действий пройдет еще пять месяцев, и король сумеет в полной мере воспользоваться подобной отсрочкой. Что касается нашего героя, как всегда трезвомыслящий и осторожный, он взял на себя оборону Орлеанского герцогства от королевских войск, в чем с ним был совершенно согласен старший брат. Еще более осторожный Жан Ангулемский, отказавшись прямо участвовать в мятеже, выговорил себе право служить посредником между братьями и королем в случае, если дело обернется плохо [110].
Впрочем, Жан Орлеанский вынужден был вновь покинуть собрание: узнав от спешно прискакавшего гонца, что супруге стало хуже, и она вынуждена была прервать движение, он немедленно поспешил назад, несясь в буквальном смысле сломя голову — и опоздал. Ему удалось достичь замка Шузе 1 сентября, буквально через несколько дней, после того, как его верная супруга испустила дух[110]. Отдав последние почести умершей, Жан Орлеанский распорядился о возвращении домой. Траурный кортеж начал медленное движение к церкви Св. Марии в Клери, где согласно последней воле усопшей, ее тело должно было найти для себя вечное успокоение. Лишь сердце Марии осталось в Шатодене, в церкви Сен-Жан, где последнюю мессу за упокой души графини де Дюнуа отслужил давний друг семьи — епископ Шартрский Миль д’Илье. Это произошло 8 сентября в день Рождества Пресвятой Богородицы — небесной покровительницы усопшей.
Таким образом, был или не был Жан де Дюнуа замешан в этот заговор — смерть супруги временно вырвала его из атмосферы политических дрязг. После похорон вместе с детьми он предпочел вернуться в Блуа, чтобы вместе с легистами графства уладить все вопросы касательно наследства покойной. Однако, в дело вмешался очередной королевский гонец, передавший графу де Дюнуа недвусмысленный приказ срочно явиться в Тур. Такова была главная беда нового короля — слепой эгоизм и полное непонимание того, что у кого-то иного могут быть свои беды и свои радости, вовсе не обязанные постоянно соответствовать сиюминутным прихотям короля. Ничего, в скором времени это обернется ему хорошим уроком.
Последняя попытка предотвратить войну
|
Зима 1464 года выдалась на редкость суровой, Франция уже много лет не помнила подобных снегопадов, продолжавшихся недели напролет, слежавшийся снег немедленно покрывался корочкой наста, дороги превратились в сплошное зеркало; и все же, никто из высокопоставленных вельмож не осмелился уклониться от королевского приглашения (читай — приказа) немедленно прибыть в Тур, где коронованный деспот «со всем благоволением и в согласии со справедливостью» собрался в очередной раз пытаться уладить свои непростые отношения с Бретанью. Соответствующее заседание открылось 1 декабря 1464 года[111].
Что же, цицероном Людовик, положим, не был, но мог вполне уверенно держаться перед лицом притихшей и явно враждебной толпы сеньоров, ожидавших от него самого худшего. Впрочем, их опасения были сейчас явно неуместными — расточая обаяние и лесть, король курил фимиам своим приближенным, объявляя их всех «столпами, поддерживающими корону», каковым не пристало склонять свой слух «к пению сирен» (читай — к уверениям бретонского герцога), и тянуть королевство назад к страшным временам междоусобной войны, которая послужит едино к выгоде извечного врага на другой стороне Ла-Манша.
Прочувствованная речь оказала желаемый эффект, от имени всех прочих Рене Анжуйский — «король трубадуров», как все поэтические натуры созданный из особо легкотающего материала, поднявшись, объявил ему в ответ «Монсеньор — вы наш король, наш суверенный сеньор и мы не знаем над собой другого… Мы будем служить едино вам и против всех иных…» Дальнейшее напоминало дурной фарс, когда бездарные актеры изо всех сил пытаются изобразить взаимную страсть, в то время как публика с трудом подавляет зевоту: граф Неверский, граф Сен-Поль, Танкарвилль, Пентьевр, герцоги Анжуйский, Орлеанский и наконец, Жан Ангулемский, ради такого торжественного случая покинувший свой тихий замок, толпой окружили короля, единодушно клянясь ему в своей преданности. Верил ли им Людовик, верили ли они сами в то, что говорили сейчас, или просто поддались единовременному взрыву эмоций, столь заразительному в условиях толпы? Мы не знаем об этом. С точностью можно сказать только одно — королевская речь, и прочувствованный ответ Рене Анжуйского сумели пронять их всего лишь на несколько минут. По окончании заседаний, принцы, герцоги и графы как ни в чем ни бывало разъехались по своим владениям и никто из них не поспешил сломя голову в бретоннский Ренн, где уже скапливались солдаты и в спешном порядке закупалось оружие — чтобы отговорить герцога Франциска от его губительных намерений.
2 января замок опустел окончательно, и король едино в сопровождении своего кузена Карла Орлеанского вернулся в Амбуаз. Герцог Карл — почти ослепший, дрожащий в лихорадке, кутающийся в меха, по каким-то неведомым для нас причинам все же взялся сопровождать своего господина. Быть может, он со своей стороны хотел сделать последнюю попытку остановить короля в его деспотических порывах и удержать страну на грани, за которой виделось только скатывание к гражданской войне и бедам прежних времен?… Опять же, нам остается только гадать.
Беседа короля и герцога проходила с глазу на глаз. Известно лишь, что король приказал (что было неудивительно по зимнему времени!) разжечь камин и подать бокалы и кувшин с горячим вином, приправленным пряностями, после чего дубовые двери залы плотно закрылись, отсекая происходящее от любопытных глаз и ушей. Однако, скорее всего между королем и герцогом произошел более чем нелицеприятный разговор. Возможно, орлеанец, уже не выбирая выражений напомнил королю о всех его глупостях, о самодурстве и слепом деспотизме, способном оттолкнуть даже самых преданных людей, и столь же прямолинейно сравнил тираничное новое царствование с блестящими победами его отца. Повторимся, мы можем строить об этом лишь догадки. Но так или иначе, ответ короля был таковым, что герцог Орлеанский не издав в ответ ни единого звука, рухнул на стол. Уже позднее, рассказывая Бастарду о произошедшем, свита принца-поэта уверяла, что Людовик буквально огорошил «ослабевшего старого сеньора» грубыми оскорблениями и площадной бранью, слепой яростью быка, сносящего все на своем пути, не думая о последствиях и результатах. Вот наглядный пример случая, когда «убийственные слова» перестают быть метафорой. Слуги распахнули дверь, услышав изнутри громкий крик короля, зовущего лекарей. Герцога Карла перенесли в постель, но никакие усилия уже не смогли ему помочь. 6 января, так и не приходя в сознание, последний принц-поэт Франции отдал Богу душу.
Весть о случившемся нашла нашего героя в бретонском Нанте, куда он прибыл двумя днями ранее, 4 января 1465 года. Нетрудно представить, как подействовала на Бастарда после недавней смерти супруги потеря любимого старшего брата, с которым столько прожито и переговорено было вместе!… Из всех сыновей ветреного Людовика Орлеанского в живых оставалось только двое, по забавному совпадению, двое тезок — вечный отшельник Жан Ангулемский и наш Бастард, несколькими годами его младше. Отныне, откинув все и всяческие сомнения, он открыто присоединился к заговорщикам, подписав с Франциском Бретонским союзнический договор[112]. И вот с этого момента и вплоть до окончания придворной карьеры, биография нашего Бастарда — за неимением достаточного количества документов приобретает характер малоизученный и в достаточной мере спорный. Последуем за ней далее.
Новое — это хорошо забытое старое…
|
Надо заметить, что в это время дела в самом королевском доме также не радовали добрыми вестями. Под предлогом охоты выехав из Парижа под прикрытие ближайших лесов, младший брат монарха, Карл Беррийский во главе преданной ему свиты во весь опор умчался прочь — в Бретань, пользуясь тем, что король в это время вздумал предпринять благочестивое паломничество в Нотр-Дам-дю-Пон, и уже потому не успел организовать погоню.
10 марта он открыто объявил себя «регентом Франции», потребовав от населения покорности исключительно себе, а также игнорирования любых приказов, исходящих от королевских ставленников «исполненных пристрастности и злобы». Само королевское правительство, по его мнению, было «дезорганизованным и жалким»[112], а для того, чтобы избавить обездоленный народ от дальнейших бедствий, следовало немедленно созвать Генеральные Штаты страны и поставить на голосование вопрос о полной отмене налогов. Что тут скажешь, зерна политической демагогии, посеянные когда-то Жаном Бургундским дали обильные всходы. Впрочем, ни Париж (на который, как видно надеялся обделенный властью младший сын короля), ни прочие города достаточно холодно отреагировали на столь соблазнительное предложение. Трудно сказать, почему это произошло: быть может, уроки недавнего прошлого все же сыграли свою роль, или же королевский брат не обладал огромным обаянием Жана Бесстрашного и просто не умел располагать к себе людей? Нам не дано о том судить.
Один из ранних биографов нашего Бастарда — многократно упомянутый Каффен де Мирувилль полагает, что наш герой также приложил руку к составлению подобного сомнительного документа — хотя справедливости ради, заметим, что новейшие авторы подобной точки зрения не разделяют. Даже оставив в стороне моменты чисто морального свойства, заметим, что наш трезвомыслящий герой не мог не понимать, какие проблемы подобная демагогия способна была доставить в скором времени своим же собственным авторам. Кроме того, столь прямая отсылка ко временам Жана Бесстрашного и недоброй памяти войны французов против французов также должна была вызвать у него как минимум сомнение в разумности подобного шага. Но, как было уже сказано, за спорностью и неопределенностью этой части биографии нашего героя, временно оставим вопрос открытым.
В любом случае, король не стал молчать, направив во все города Франции собственный манифест, который — в отличие от явно демагогического словоизлияния Карла Беррийского, был сух и продиктован здравым смыслом. На сей раз ответ последовал незамедлительно: Париж, Руан, Лион, а также многие провинции Юга отправили к королю своих посланцев с заверениями в покорности его приказам, Верный союзник Сфорца спешно укреплял стены пикардийских городов, могущих подвергнуться нападению. Кроме того (что куда более важно) во все стороны рассыпались королевские шпионы, имевшие своей целью сеять раздор и недоверие между участниками Лиги.
Столкновение, таким образом, становилось неизбежным: дуэль нервов, и без того с обеих сторон напряженных до предела, прервал герцог Бурбонский, первым начавший открытую войну против своего монарха. Обычным порядком обвинив короля, что тот желает «обездолить аристократов, духовенство… и бедных людей», он без всяких намеков и двусмысленностей, приказал в своих владениях арестовать всех королевских чиновников, безразлично к их званию, и, конечно же, поспешил перенаправить в свою пользу налоги, ранее собиравшиеся для королевской казны. Узнав о случившемся, король немедленно приказал перевезти государственную казну в Тур, под защиту неприступных стен, сам же со всей поспешностью направился в Сомюр — где обосновавшись в любимом замке давно покойной королевы Иоланды, спешно собирал под свое командование преданных людей, и — надо отдать должное новому монарху — придирчиво выбирая среди капитанов короны самых талантливых и дальновидных, приказал к тому же закупить для своих войск целые табуны крепких лошадей и доспехи, изготовленные по последнему слову тогдашней техники. Под королевские знамена встало 5 тыс. рыцарских «копий»[113], руководство над королевской конницей было отдано доброму другу Бастарда — Пьеру де Брезе, как мы помним, в течение многих лет преданно служившему прежнему королю, а при новом познавшем опалу, тюрьму и конечный триумф и возвращение к власти.
Людовик не любил, и положа руку на сердце скажем, не умел воевать, но выхода у него просто не было. Против своего законного владыки ополчились ни много ни мало семь герцогов, двенадцать графов и в общей сложности 50 тысяч латников, вооруженных буквально до зубов. На кону стояла целостность королевства Французского, и быть может, само продолжение его существования в качестве европейского государства. И во всем этом, опять же скажем прямо, король мог винить только самого себя. Впрочем, предаваться отчаянию было рано: под его началом находилось первоклассно вышколенное войско, едва ли не лучшее на континенте, в течение многих лет терпеливо взращенное его отцом. Кроме собственно французов в бой рвались германские наемники, а также горожане Льежа, горевшие желанием припомнить все обиды своим давним недругам — бургундцам, ополчение Дофине, традиционно верное своему господину, и наконец, еще пять тысяч лучников и арбалетчиков клятвенно обещался прислать в помощь Галеаццо Сфорца (ну хотя бы какая-то польза от этого союза все же была!).
Со своей стороны огромную армию принцев, как водится, раздирали противоречия, каждый мелкий и крупный сеньор, как бывало в прежние времена, собирался воевать по собственной прихоти, не считаясь с волей всех остальных и не имея над собой единого командования. Однако, столь обнадеживающее (для монарха) начало портил гигантский минус: одним из главарей заговора был Карл де Шаролле, единственный сын и наследник стареющего бургундца, один из лучших военачальников своего времени, презирающий нерыцарственного и невоинственного короля, и к тому же, имеющего к Людовику личные счеты за оскорбление, нанесенное отцу. Бургундия, этот вечный гвоздь в сапоге! По окончанию военных действий, королю следовало озаботиться, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда. Он так и сделает — но с такой неуклюжестью, что последняя хозяйка этих земель — Мария, внучка Филиппа Бургундского, желая во что бы то ни стало ускользнуть от королевской тирании, отдастся под покровительство немецкого императора, передав ему за помощь часть своих огромных владений. Эти «спорные» земли — Франш-Конте и Бургундское графство, будут в течение многих столетий настоящим яблоком раздора между Германией и Францией, окончательную точку в споре поставит только ХХ век. Королевское самодурство дорого обходилось стране.
Король терпит поражение
|
Пока же обо всем этом думать было рано (да и по большому счету, просто невозможно!) оставив Карла Мэнского с 13 тысячами солдат защищать французские границы против возможных поползновений со стороны Бретани и Карла Беррийского, 26 марта Людовик во главе отряда из 800 копий выступил против бурбонца. Приведя к покорности Монлюсон, и без особого труда разогнав не слишком организованное бурбонское ополчение, монарх принудил мятежного герцога запереться в Мулене. Впрочем, сам Людовик терять времени на осаду не собирался — оставив в качестве заслона лишь небольшой отряд, он продолжал стремительно двигаться вперед; города, один за другим сдавались на милость победителя.
Впрочем, далее удобно устроившись в Сен-Порсене «городе славном своим вином», король даром терял время, бесконечно переговариваясь с мятежниками, получая от них уклончивые и двусмысленные ответы. Кажется, столь явная попытка со стороны столь опытных переговорщиков как Дюнуа и его племянника Франциск Бретонского потянуть время, должна была насторожить короля — но нет[114]. Продолжать противостояние Людовик не желал, полагая, что столь грозная демонстрация уже успела нагнать страха на заговорщиков, и те, после после череды бесконечно возобновляющихся перемирий, наконец, сложат оружие. Впрочем, была и другая возможность, которую ему усиленно предлагали советники: сняться с места и отправиться на север, в Пикардию, где одним своим появлением нагнать страх на бургундцев и прекратить противостояние уже раз и навсегда. В начале апреля 1465 года его опередил гонец, на взмыленной лошади прискакавший к своему правителю. Как и следовало ожидать, пока Людовик тянул время и ждал, пока возмущение уляжется само собой, Карл Бурбонский, запертый в Мулене, исхитрился связаться с бургундским наследником, и теперь Карл де Шаролле во главе отборного войска готовился перейти Уазу, чтобы затем начать наступление на Париж во главе 25 тысячного отряда из отборных бургундских солдат, усиленных брабантцами, пикардийцами и даже немцами, а также мощного артиллерийского парка.
Благодушие короля немедленно сменилось лихорадочным действием — одного за другим он слал гонцов к Пьеру де Брезе с приказами во что бы то ни стало задержать продвижение бургундца до подхода главных сил. Тщетно. 10 апреля Карл Шаролле перешел Уазу по мосту Сен-Максанс, впрочем, весьма неприятно пораженный тем фактом, что бретонские войска, и наемники Карла Беррийского, должные ждать его на другом берегу реки куда-то запропастились. Вполне возможно, что слабо организованные отряды обоих принцев просто задержались в пути, отвлекшись на грабеж городов и деревень — неизбежное зло в феодальных войнах. Забегая вперед, скажем, что встреча эта все-таки произойдет — 21 июля, в Этампе[114]. Многие историки склоняются к тому, что в столь непонятной трехмесячной задержке повинен был… наш Бастард, при всей своей антипатии к новому монарху отнюдь не желавший, чтобы страну просто растащили по кускам.
Впрочем, бургундец был не из тех, кого смутила бы подобная неожиданность. Его отряды продолжали стремительно двигаться вперед, и 17 июля 1465 года столкнулись с авангардом королевской армии у Монлери. Битва жестокая, остервенелая, унесшая множество жизней, битва, где как часто бывает, нашли для себя место и доблесть и предательство, закончилась поражением королевских войск. Здесь на поле Монлери, среди прочих других закончил свою славную жизнь закадычный друг нашего Бастарда, Пьер де Брезе, великий сенешаль Нормандии, один из последних рыцарей уходящей в прошлое феодальной эры. Франция — огромная и беззащитная лежала перед войском победителя, которому оставалось только занять Париж, чтобы окончательно взять управление страной в свои руки. Кое-как пробившись сквозь ряды противника, Людовик вместе с немногими оставшимися ему верными военачальниками и простыми солдатами успел ускакать прочь — в Нормандию, под защиту своих войск. Отныне от от него требовались решительные и точно выверенные действия — без права на ошибку.
А что же Дюнуа? Авторы источников того времени противоречат друг другу, если бургундский хроникер Филипп де Коммин категорически утверждает, что Бастард сражался против королевских войск, ему возражает весьма осведомленный итальянец Панигалора — посол миланского герцога при королевском дворе. Жестоко страдавший от очередного приступа почечной колики (как мы помним, болезнь не покидала его со времени достопамятного путешествия в Италию), способный передвигаться лишь медленно, небольшими переходами, на конных носилках, Дюнуа, по всей видимости, исполнявший очередное дипломатическое поручение в лагере противника, с огромным трудом смог достичь Этампа, где победители уже собирались устроить пышный пир, с распределением должностей и почестей при новом правителе — Карле Беррийском, прямо видевшим себя регентом Франции при неспособном к управлению старшем брате.
Нам не стоит поддаваться соблазну видеть в болезни нашего Бастарда некий дипломатический трюк — всей своей жизнью он успел доказать, что не боялся трудностей, и будучи уверен в своей правоте, способен был противостоять любому нажиму — равно на поле боя и в словесной баталии. Нет, скорее всего приступ болезни оказался для него самого весьма неприятной неожиданностью, расстроившей план очередного раунда дипломатических переговоров. Не забудем также, что граф де Дюнуа был уже не молод, через три года его не станет. С природой, к сожалению, не поспоришь, возраст и подорванное в бесконечных походах здоровье брали свое. Другое дело, что в это время поведение нашего Бастарда отличается подчеркнутой умеренностью. В исторической науке существует мнение (впрочем, не имеющее большого количества сторонников), будто Жан Орлеанский с самого начала примкнул к мятежникам лишь притворно, исполняя роль прямого королевского агента в их рядах. Впрочем, с нашей точки зрения, подобное поведение могло быть характерно лишь для робота, полностью лишенного человеческих чувств и слабостей, или же для святого, обладающего некоей сверхчеловеческой дальновидностью и умением жертвовать собой и интересами семьи ради великих будущих перспектив. Посему автору представляется куда более вероятным, что наш герой принадлежал к «умеренному крылу» заговорщиков, желающих лишь уступок и возвращения к прежнему; совершенно искренне изначально примкнув к возмущению против королевской деспотии, он в скором времени понял, что мятежники де-факто, ведут дело к расчленению страны и превращению ее в лоскутное одеяло удельных владений. Посему, не имея возможности отговорить их от подобных замыслов, и тем более воспрепятствовать (в случае победы) возведению на трон слабовольного Карла Беррийского, Бастард мог вынужденно избрать партию короля — как меньшее из зол. Каффен де Мирувилль полагает, что в это время Дюнуа тайно встречался с королем или его посланцами, чтобы обсудить дальнейшие действия — однако никаких доказательств тому нет[115]. Судите сами, читатель.
Затянувшееся перемирие
|
Итак, после столь болезненного поражения, король задумался над тем, чтобы заключить с мятежниками перемирие. Не имея возможности противостоять коалиции аристократов силой, Людовик задумал развалить ее изнутри, путем интриг и коварства перессорив между собой участников Лиги, вселив в каждом из них недоверие и зависть к другому. Конечно же, с частью ее приверженцев — ради успеха всего плана, следовало поделиться властью и могуществом, бросив им, фигурально выражаясь, кости с королевского стола, заключить начальный договор, быть может, не на самых лучших условиях, но — оставляя себе возможность в будущем его пересмотреть в свою пользу.
Долго ждать ему не пришлось, 22 августа шестеро герольдов в с вышитыми на одежде гербами герцогов Беррийского, Бурбонского, Калабрийского и наконец, графа де Дюнуа, появились в парижских ворот Сент-Антуан. Говоря от имени короля, граф Э согласился на переговоры, которые должны были открыться тремя днями позднее в городе Боте-сюр-Марн.
Итак, 25 августа, в Боте (в городе, где он появился на свет!) Бастард в качестве главы посольства, направленного Карлом Беррийским, встречается с посланцами короля, начатый диалог продолжается затем в Конфлане, где намечаются контуры будущего соглашения, и наконец, в Сен-Мор-де-Фоссе. Переговоры будут тянуться с переменным успехов в течение добрых двух месяцев, прерываясь время от времени короткими стычками, посредством которых каждая из сторон пытылась захватить врасплох и напугать противника, и новыми перемириями, постоянно возобновляемыми[115]. С первого взгляда кажется, что договор, к которому Людовик будет вынужден приложить свою печать, был исключительно тяжелым для королевства. Королю вменялось в обязанность вернуть членам лиги незаконно конфискованные у них земли, восстановить в прежних правах тех, кто ранее вызвал его недовольство, загладить нанесенные обиды серьезными денежными выплатами, отдать в руки мятежников управление армией и финансами. Людовик вынужден был согласиться на все, в то время как в хитроумном мозгу уже не лисенка — но матерого лиса! постепенно зрел план, как изменить соотношение сил в свою пользу.
Пока же Дюнуа, встретившись с делегацией парижан (в составе епископа Гильома Шартье, Томá де Курселя — бывшего декана Университета и одного из судей Жанны, а также Эсташа Люлье), направленной к нему королевским наместником графом Э — положив руку на эфес меча, не терпящим возражения тоном потребовал открыть принцам ворота столицы до 25 августа, угрожая в противном случае подчинить город силой, «даже в случае, ежели это будет стоить жизни ста тысячам человек». Надо сказать, что в какой-то мере Бастард блефовал — ради подобного подвига, ему пришлось бы принести в жертву всю армию принцев (составлявшую, как мы помним, около 50 тысяч латников) причем не один раз, а дважды! Но — кто владеет столицей — владеет Францией.
Однако с другой стороны Жан де Дюнуа мастерски уклонился от вопроса о назначении Карла Беррийского (совершенно неспособного к управлению, как это многим уже становилось ясно) регентом королевства. Также его стараниями, свои места сохранили все члены правительства при действующем монархе. Подобный компромисс многих поверг в замешательство. Что касается непременного захвата Парижа, и это требование оказалось спущенным на тормозах, притязания мятежников закончились несколькими военными демонстрациями на берегах Сены в районе Венсенского леса, после чего хладнокровный, не привыкший поддаваться сиюминутной панике, купеческий прево столицы Анри Ливр распорядился до отказа наполнить городские склады мукой, сырами, яйцами, салом и вином, также загнать в город стадо мясного скота, после чего в лагерь мятежников были направлено посольство, везущее с собой огромные телеги продовольствия и фуража — так что вполне удовлетворившихся подобными подношениями принцев удалось уговорить подождать «согласия короля». Таким образом, ситуация плавно перетекла в патовое состояние — бесконечные перемирия все возобновлялись, мятежники медлили с попыткой силой завладеть Парижем (что потребовало бы много крови), в надежде, что город рано или поздно сам откроет им ворота, в то время как Людовик, желавший скорейшего прекращения войны и решения всего дела за столом переговоров (в чем он был традиционно силен!), уже спешил к столице из Нормандии с 12 тысячами латников, артиллерией и — 700 мюидами белой муки. Отличный способ вести военные действия!…
Приближались холода, в плохо организованной армии принцев, как и следовало ожидать, начинались волнения. Солдаты требовали теплой одежды, зимних квартир и выплаты давно задерживаемого жалования. Война нервов утомила обе стороны — нужно было приходить к окончательному соглашению. Дождавшись этого момента, король решил, что пришло время действовать.
Договор в Сен-Мор-де Фоссе
|
В первую очередь нейтрализовать было необходимо Карла де Шаролле, посему король собственной персоной, благодушный и миролюбивый появился в Конфлане, где бургундец расположился со своим двором. В ход была пущена лесть, притворное смирение, и даже напускная веселость, с которой монарх предложил представителям лиги – графу Сен-Полю, Жану Ангулемскому и Бастарду партию в шахматы. Надо сказать, что сам по себе этот визит посеял беспокойство среди рядовых мятежников: страх перед тем, что оба противника за плотно закрытыми дверями сумеют столковаться между собой, оставив ни с чем всех остальных.
Надо сказать, что опасения эти оказались далеко не беспочвенны: 5 октября 1465 года мирный договор был подписан в своей окончательной редакции. Согласно ему Карлу Шаролле безвозмездно возвращались города на Сомме, когда-то купленные короной у его отца за 400 тыс. золотых экю, Карлу Беррийскому в качестве апанажа доставалась Нормандия (что окончательно должно было похоронить надежды этого королевского сына заполучить для себя регентство – не говоря уже о короне). Франциску Бретонскому возвращался полный контроль над выборами духовных лиц в пределах его герцогства, шпага коннетабля Франции (после смерти Ришмона эта должность оставалось вакантной) переходила к графу Сен-Полю, которого монарх, надо сказать, смертельно ненавидел, и в скором времени нашел повод аннулировать свое же назначение. Все остальные мятежники оставались без выплат и наград и могли разве что проклинать «предательство» Шаролле, чего собственно и добивался коронованный лис.
9 октября на свет появляется новый приказ, подписанный королем лично, в согласии с которым графу де Дюнуа возвращаются (добавим от себя, уже навечно), отнятые у него ранее сеньория Партене и земли в Пуатусском графстве. В скором времени после того – как бы по причине отсутствия нового камергера, которого в спешке просто не успели назначить, наш Бастард исполняет свои прежние обязанности на церемонии присяги, которую младший королевский брат приносит за Нормандию. Герцогство Берри, конечно же, возвращается во владения короны[115].
Вслед за тем 28 октября при содействии нашего Бастарда были составлены и подписаны патентные письма, объединенные затем в т.н. «Договор, именуемый Сен-Морским». Похоже, столь жестокое испытание пошло королю на пользу – ему наконец хватило ума и выдержки понять что его капризы и попытка превратить страну в свою личную собственность смертельно опасны в первую очередь для него самого. Посему, проявив несвойственное для него ранее благоразумие, Людовик позаботился о том, чтобы в этом «договоре» настоять на формировании «Совета Тридцати Шести», должного исполнять роль высшего суда и в отсутствие в столице короля (постоянно бывшего в разъездах), следить за порядком и спокойствием в государстве. Таким образом, «общественное благо», о котором якобы пеклись заговорщики, получило значительное развитие, и в то же время основные участники мятежа остались ни с чем, озлобленные против своих главарей – отличная гарантия неповторения подобных выступлений в будущем. Отметим еще раз, Людовик вряд ли может вызвать теплые чувства – это была крайне малоприятная личность – интриган, лжец и самовлюбленный эгоист, но его политика, продиктованная самим ходом событий неизменно служила к объединению Франции. Он стал одним из последних «собирателей земли», и во многом благодаря усилиям именно этого монарха, в отличие от раздробленных на куски Германии, Италии или же Польши, Франция вошла в Новое Время в качестве мощного, централизованного государства, с которым приходилось считаться даже самым воинственным из соседей.
Эта долгая и кропотливая работа окончательно сблизила монарха со «старым Дюнуа», к которому он постепенно успел проникнуться искренним уважением. Посему, получив официальное королевское прощение за выступление на стороне мятежников, Дюнуа вслед за тем стал председателем нового Совета, т.к. по собственному выражению Людовика он был «назначен и утвержден [в этой должности] ради сохранения благого мира, к чему монсеньор де Дюнуа приложил величайшие усилия». Впрочем, король не остановился на этом – желая явить Жану Орлеанскому свою признательность и уважение, он распорядился вернуть ему все конфискованные ранее земли, должность великого камергера короны, пенсию в 6 тыс. ливров годового дохода. Все вышеизложенное было закреплено на бумаге особым распоряжением от 14 октября 1465 года, причем к документу приложена была королевская печать из желтого воска.
Последняя дипломатическая победа Жана де Дюнуа
|
Но это еще в будущем, а пока результаты королевской глупости следовало ликвидировать как можно быстрее и безболезненней. На небольшое время граф де Дюнуа задержался в Париже, где председательствовал на первом заседании новоназначенного «Совета Тридцати Шести», исподволь приучая новых в политике людей принимать решения и строго следовать им, не скатываясь к пустопорожней говорильне. 30 ноября он получает очередную – очень почетную и престижную, но последнюю для себя официальную дожность члена совета Нормандии, в соответствии с которым ему следует немедленно направиться в Тур, где назначено заседание Генеральных Штатов[116].
Неожиданно и очень не вовремя приступ почечной колики вновь свалил «старого Дюнуа», но превозмогая себя, он все же отправился туда лежа, на конных носилках. Последний подвиг, последнее усилие во имя служения Франции. В первую очередь озаботиться следовало о том, чтобы Нормандия ни в коем случае реально не оказалась в руках безвольного Карла Беррийского. Мало того, что эта земля давно уже привлекала к себе алчное внимание бретонца, она отделяла его от владений высоко ценимого союзника – графа де Шаролле. Случись то, чего добивались заговорщики – вся Северная Франция превратилась бы в единый бастион, постоянно угрожающий самому институту королевской власти.
Посему, не без дипломатический усилий нашего Бастарда, Генеральные Штаты Севера категорически высказались против подобного дарения, объявив Нормандию неотчуждаемым владением французской короны. Небольшая, но вполне красноречивая демонстрация военной силы завершила все дело, заставив замолчать сторонников противоположной точки зрения (если таковые были вообще). Таким образом, королю оставалось лишь развести руками, и сделав невинное лицо, посетовать перед братом на известную несговорчивость северян – успевшую войти в пословицу. «Миролюбивые» предложения обоих герцогов, которые соглашаясь с неизбежностью, предлагали заменить несостоявшееся дарение на более-менее равнозначную территорию – Шампань или Дофине – представляли собой настолько явную и незамаскированную ловушку, что молодой король, вкупе со своим искушенным в политических играх советником просто не могли ее не распознать. Обе земли находились опять же, в опасной близости к владениям обоих заговорщиков, и также представляли собой объект вожделения... на этот раз Карла Бургундского. Нет, на подобную приманку, из которой на всеобщее обозрение выглядывал крючок, никто реагировать не собирался. Королевский брат получил в управление Гиень – на крайнем Юге Франции, и потому оказался прочно изолирован. Четыре года спустя он скончается при обстоятельствах столь подозрительного характера, что они вызовут неизбежные вопросы. Вопросы, ответов на которые нет до сих пор... Что касается графа де Сен-Поль, он в скором времени потеряет свою должность, а десять лет спустя, попытавшись в очередной раз поднять мятеж против короля, закончит на плахе. Впрочем, все это в будущем. Вернемся[117].
Итак, чуть более месяца после своей капитуляции, король исхитрился вернуть стране больше половины земель, уступленных заговорщикам. Этот громкий дипломатический успех стал последним для Жана де Дюнуа. Его здоровье было окончательно подорвано тягостями и треволнениями последней поездки; душевное состояние «старого графа» после недавней череды потерь также оставляло желать лучшего. Новости от единственного оставшегося в живых брата – Жана Ангулемского также не внушали оптимизма: прикованный к постели тяжелой болезнью, он почти не имел шансов на выздоровление[118].
Посему, выйдя в отставку по возрасту, наш Бастард окончательно осел в своих владениях, которые в течение многих лет посещал только урывками; тем более, что за время его отсутствия накопилось огромное количество дел, требовавших хозяйского глаза и хозяйской твердой воли. Впрочем, урывками, сколь то позволит здоровье и время, он будет еще появляться при дворе, неизменно встречая там радушный прием, и также вплоть до самой смерти будет пристально следить за ходом политических дел[118].
Последние годы
Возвращение домой и семейные хлопоты
|
Как мы помним, 3 октября 1463 года, в Арле, вернувшись из поездки в Италию, вместе с любимой супругой, которой тогда оставалось жить чуть менее года, он составил свое завещание. Опять же, как мы помним, после бегства старшей дочери, оно исправлялось, переписывалось; и вот сейчас, уже в одиночку, понимая, что ему также осталось недолго, Жан де Дюнуа перечитывал исправно составленный документ, уточняя и дополняя его по ходу дела. Как и следовало ожидать, он хотел быть похороненным «в церкви Нотр-Дам-де-Клери, в часовне Св. Иоанна (небесного покровителя нашего Бастарда — прим. переводчика), дабы поверх обоих могил установлены были надгробия из алебастра или же меди, каковым следует иметь в высоту не более трех пальцев, и на каковых надгробиях, душеприказчикам следует сделать надписи, в согласии с тем, что им будет объявлено и вменено в обязанность».
Клирикам обители Нотр-Дам было поручено отслужить за упокой обоих супругов семь тысяч поминальных месс. Немалые суммы денег выделялись на богоугодные дела — в частности, из них следовало обеспечить приданое для бедных девушек, и оказать неотложную помощь нуждающимся в семи городах, находившихся во владениях Жана де Дюнуа. Вся прислуга графского дома после смерти хозяина также получала денежное вознаграждение. В память о старшем сыне, закончившем нелепой смертью на дуэли, во время обучения в Парижской Сорбонне, двести золотых ливров должно было перейти в казну Университета, с тем, что бы разделив эту сумму на шесть равных частей, обеспечить таким образом полный курс обучения шести бедных стипендиантов-богословов.
Покончив с этим, и решив посвятить остаток своих дней наведению порядка в своих владениях, а также обустройству и украшению церкви в Шатодене. Надо сказать, что проект этот они также планировали и разрабатывали совместно с Марией. За два столетия небрежения, войн и стихийных бедствий прежняя церковь пришла в полное запустение. Сейчас для нового строительства были выписаны художники и архитекторы. Старое, полуразрушенное здание была снесено до основания и на ее месте поднялось изящная маленькая церковь, освященная в честь Св. Себастьяна и Св. Роха.
Пока же наш герой коротал свой неожиданно появившийся досуг за охотой (в те моменты, когда ему это позволяла погода и пошатнувшееся здоровье), шахматами, неспешными беседами с родными у жарко горящего камина, и наконец, за чтением. Библиотека была предметом его гордости, а также неусыпного надзора — во что бы то ни стало граф де Дюнуа желал оставить после себя собрание книг не менее богатое, чем то, каким обладал его отец и ныне покойный старший брат. Кроме того, став тонким знатоком драгоценностей, он во множестве приобретал таковые, без устали заполняя ими ларцы. По всей стране, а порой и за рубежом, агенты Бастарда скупали для новопостроенной церкви самые изысканные украшения, литургическое платье для священников, и наконец, святые реликвии, принадлежавшие по преданиям Св. Петру, Св. Андрею, Св. Иоанну-Крестителю, и наконец, Св. Деве[119]. Замок по его приказу, должен был остаться таким, каким был при жизни любимой супруги; о новом браке Жан Орлеанский не хотел даже думать. Вместо того, пора было поставить вопрос о женитьбе его 19-летнего сына, к которому король, опять же, питал искреннюю приязнь — что с этим холодным человеком случалось не слишком часто.
В полном согласии с волей короля, невестой была избрана Агнесса Савойская, младшая сестра королевы Франции; таким образом, Жан Орлеанский становился свойственником правящему монарху. 2 июля следующего затем 1466 года, свадьбу сыграли со всей полагающейся пышностью в Монтаржи. Желая вновь продемонстрировать свое расположение главному камергеру, король вместе с супругой присутствовали во время торжества. Приданое невесты составило 40 тыс. золотых экю, король со своей стороны отписал молодым сеньории Уассан, Ла-Мюр и Мартизан, в провинции Дофине[119]. В качестве свадебного подарка от Жана де Дюнуа, сыну и невестке достался замок в Божанси, нежилой после смерти его супруги.
Следующей замуж вышла старшая дочь: планы касательно монашеского пострига уже давно были отставлены, ее несколько поспешное обещание вступить в брак с ветреным Бурбонским Бастардом 16 апреля все того же 1466 года — официально аннулировано Авиньонским официалом, и наконец, в начале осени Мария де Дюнуа благополучно обвенчалась с Луи ла Э, сеньором де Пассаван и де Мортань[120].
Чувствуя, что силы его тают, и жизнь подходит к своему неизбежному концу, Жан Орлеанский спешил как мог, чтобы привести к логическому завершению все свои планы. По всей видимости, в том же году он посетил Лонгевилль — свое северное владение, где у парадного входа в местный собор распорядился возвести две статуи, должные изображать верных друзей его молодых лет — Ла Гира и Потона де Сентрайля, к тому времени уже покойных. В Пате, местечке, где когда-то вместе с Жанной ему удалось одержать убедительную победу над английским войском, местной церкви была отписана крупная сумма денег на закупку драгоценных реликвий[120].
Окончание строительства и брак младшей дочери
В последний раз он появляется на заседании Генеральных Штатов в Туре в следующем, 1467 году, прибывая и отбывая прочь на конных носилках: держаться в седле он уже не в силах. Приступы почечной колики напоминают о себе все чаще, угрожая из раза в раз окончательно прервать его жизнь[121]. С лихорадочной поспешностью, желая закончить все давно задуманное и запланированное, он строит часовню Св. Николая в приходе Сен-Фермен, прилегающем к его любимой резиденции — Божанси. Работы в Клери приказано ускорить, в Шатодене Ришар Фее и его сын Жермен под неусыпным надзором Колена дю Валя работают буквально день и ночь, стремясь закончить строительство нового замкового крыла, строительство церкви Сен-Венсан идет к концу, для Св. Капеллы закупаются органы, заканчивается внутренняя отделка, и наконец «Раулю де Гримбо, мастеру школы Партене», дается приказание украсить одну из внутренних стен огромной фреской с изображением Страшного Суда. Фреска эта сохранилась до сих пор, видеть ее может любой желающий, в отличие от другого произведения, утерянного, к сожалению, навсегда. Этим вторым был разноцветный витраж, по обычаю времени изображающий самого донатора — то есть нашего Бастарда, в полном вооружении, со щитом, несущим его герб, в молитвенной позе, вместе с супругой, на следующей за тем части витража изображен был молодой Франциск — сын и наследник. Эти без сомнения выдающиеся по своему исполнению и замыслу творения благополучно просуществовали до 1815 года, когда были варварски уничтожены прусской армией.
Центральный неф дополнялся 12 колонамми, каждая из которых украшена была статуей, должной служить напоминанием о прошлом и дорогих нашему Бастарду людях. Так здесь стояли изображения обоих святых покровителей Жана де Дюнуа — Иоанна Крестителя и Евангелиста Иоанна, св. Барбара со своим обычным атрибутом — трехгранным столпом, должным служить напоминанием о св. Троице, Св. Аполлония с парой железных щипцов — в память о своем мученичестве,св. Магдалина, и наконец, св. Геновефа с книгой. С другой стороны располагались статуи Марии Египетской, с пышными волосами, скрывавшими ее наготу, св. Елизаветы Венгерской, св. Радегонды, и наконец, обеих святых покровительниц Жанны — Екатерины Александрийской и Маргариты Антиохийской. У входа в один из боковых приделов, путника ожидали еще три статуи, причем две из них изображали Св. Франциска и Св. Агнессу — как несложно догадаться, небесных покровителей его невестки и сына. Кроме того, в боковой части нефа, неподалеку от входа загодя было заготовлено все необходимое, чтобы со временем принять тело графа де Дюнуа[122]. А мысли о смерти приходили все чаще: в апреле 1467 года не стало Жана Ангулемского — отныне наш герой оставался последним представителем старшего поколения Орлеанского дома. Уже ненадолго…
Впрочем, кое-что еще оставалось сделать. 16 марта следующего 1468 года наш Бастард выдал замуж свою младшую дочь: Катерина де Дюнуа обвенчалась со своим дальним родственником Жаном Сарребрюком, сеньором де Руси; в память об этом событии все той же церкви Сен-Венсан был дарован драгоценный аналой. Теперь Бастард мог быть спокоен за судьбу троих своих детей. Земные дела подходили к концу, наступало время подумать о вечности[123].
Тогда же «по причине великой преданности, каковую он питает к св. Гатьену Турскому, и церкви во имя его освященной, дабы отныне там, вкупе с церковью Сен-Бютиль, каковые есть предстатели наши перед Господом, Создателем нашим и Благословенной Его Матерью, велись молитвословия, и службы за упокой души ныне покойного, новопреставившегося Карла, короля Франции, а также за упокой души ныне покойной дамы Марии д’Аркур, супруги его, в сказанной церкви установлены были отныне четыре ежегодных юбилея, каковые служится будут в среду каждой из постных недель Четырех Времен Года»[121].
| Святая Капелла, замок Шатоден | ||||

|

|

|

|

|
| Св. Иоанн Креститель, небесный заступник нашего Бастарда. 1467 г. Святая Капелла, Шатоден |
Св. Екатерина Александрийская. 1467 г. Святая Капелла, Шатоден |
Фреска с изображением Страшного Суда. Рауль де Гримбо «Страшный суд» - 1467 г. Святая Капелла, Шатоден |
Святая Маргарита Антиохийская. 1467 г. Святая Капелла, Шатоден |
Святой Франциск Ассизский и Святая Агнесса. 1467 г. Святая Капелла, Шатоден |
Как мы помним, еще тремя годами ранее, во время очередного короткого возвращения домой, Жан де Дюнуа загорелся идеей построить в своих владениях Св. Капеллу, использовав в в качестве образца великолепные Капеллы Св. Людовика в Венсенне и Бурже. Право на служение и соответствующие ему земельные и денежные пожалования предназначались монахам обители Св. Виктора — когда-то обучавших юного Бастарда чтению, письму и первым молитвам. Однако, в тот момент подобные поползновения вызвали активное неприятие у капитула Св. Магдалины, не желавших, чтобы потенциальные доходы и милости прошли мимо их обители. Несмотря на поддержку своего доброго друга — епископа Шартрского, Дюнуа перед лицом их непримиримого сопротивления, и требований соблюдения стародавних обычаев, согласно которым капитул Св. Магдалины имел право на безраздельное обладание всеми доходами от городской церкви и всего, что к ней прилагалось, вынужден был уступить.
Король в гостях у графа Дюнуа
|
Однако, ревнители старины плохо знали своего сеньора. Сейчас, улучив удачный момент, он вновь вернулся к своему прежнему плану. На сей раз сопротивление капитула было сломлено. Людовик сам взялся хлопотать перед папой Александром VI (знаменитым Борджиа!), так что проект и 1 июня 1468 года проект наконец-то был утвержден в той форме, которая была угодна донатору. Четырьмя днями позднее новая церковь была освящена со всей полагающейся торжественностью в присутствии представителей короны (среди которых выделялись канцлер Жан Жювеналь дез Юрсен — автор «Хроники Карла VI», Жан де Прево — личный секретарь короля и наконец, епископ Шартрский), а также многочисленных местных сеньоров, причем обряд провел собственной персоной кардинал Гильом д’Эстувилль. В качестве особой милости, новой церкви были дарованы все привилегии, полагавшиеся личным церквам французских государей — небольшое, но весьма лестное выражение монаршей благодарности Великому Камергеру Франции за все долгие годы службы. В полном согласии с желанием донатора, после его смерти, в этой церкви должны были служиться мессы «во спасение и за усопших — блаженной памяти Карла Пятого, бывшего ему предком, а также Карла Седьмого, короля Французского, и монсеньора Людовика Орлеанского, его отца, и монсеньора Карла Валуа, также герцога Орлеанского, и сказанного господина графа и его супруги, Марии де Аркур, а также всех родственников, равно живых и усопших, принадлежащих к королевскому дому Франции вкупе с домом де Аркур…» . Современные историки с интересом отметили, что в этом списке дорогих ему людей, как бы по недосмотру не нашлось места для несчастного безумца Карла VI…
Впрочем, и на этой земле, как оказалось в скором времени, для графа де Дюнуа осталось еще достаточно дел. 4 июля того же года он стал официальным опекуном Людовика – сына Карла Орлеанского, а также двух его юных сестер[124].
В начале сентября одним из первых гостей в церкви и отремонтированном, сразу посвежевшем и обновленном замке Шатоден, стал король Франции собственной персоной. Появившись без всякого предупреждения, в костюме охотника, в высоких сапогах и охотничьим рогом на перевязи, король взглядом знатока одобрительно окинул Большой Зал Шатоденского замка и вслед за взволнованным и смятенным подобным визитом мэтр д’отелем, прошел в помещение библиотеки, где в скором времени появился спешно вызванный хозяин. Осушив несколько бокалов дорогого вина и угостившись засахаренными орехами, поданными ему в качестве легкой закуски, король небрежно шутил в ожидании обеда, делясь с внимательно слушающим Дюнуа своими планами будущих династических браков, союзов, среди прочих не был забыт и юный Людовик – сын покойного герцога Орлеанского, чьим опекуном и воспитателем после смерти брата сделался наш Бастард. Быть может, обронил король, в будущем, этот мальчик станет королем – кто знает?.. Следует заменить, что Людовик-старший будто в воду смотрел – после бездетной смерти его собственного сына, Людовик Орлеанский действительно взойдет на трон.
И наконец, за обедом из нескольких спешно приготовленных куриц и заливным из бараньего хвоста, король перешел наконец к реальной цели своего визита. Он потребовал, чтобы из архивов Орлеанского дома были извлечены и даны ему для ознакомления копии статутов бургундского Ордена Золотого Руна, одного из самых престижных и богатых Орденов Франции этого времени.
Королевское желание будет исполнено, и 1 августа следующего 1469 года в Амбуазе будет основан Орден во имя Св. Михаила Архангела, должный состоять из 36 рыцарей, причем прерогатива их отбора принадлежала самому королю. Орден этот благополучно просуществует до конца XVIII века, и будет де-факто упразднен революцией и последующими за ней событиями.
22 сентября того же года рядом с церковью были заложены здания будущего приорства, должного по желанию донатора служить приютом 13 монахов во главе с настоятелем, впрочем, торжество нашего Бастарда омрачалось тем, что монахи Сен-Викторской обители, ради которых и было затеяно все строительство, в вежливой но категоричной форме отклонили столь щедрое предложение, ссылаясь на то, что устав Св. Августина, которому следовал их монастырь, запрещал им принимать дары.
Прощание
|
В октябре 1468 года Жан де Дюнуа загорелся желанием посетить Лонгевилль, где не был уже несколько лет. Надо сказать, что этой поездке под дождем, по осенней распутице изо всех сил воспротивился его личный врач — Шарль де Борегар, однако переупрямить нашего Бастарда, уже принявшего для себя какое-то решение, было невозможно. Понимая, что поездка так или иначе состоится, более осторожный секретарь Флоран Бургуэн пригласил с собой в дорогу священника, предупредив его о том, что следует быть готовым к самому худшему.
15 октября, попрощавшись с детьми и слугами (кстати говоря, боготворившими своего господина, чья скорая смерть станет для них жестоким горем), Жан де Дюнуа, лежа в повозке, отправился в свое последнее путешествие в сопровождении нескольких особо приближенных слуг, личного секретаря, и наконец, скромного по размерам вооруженного отряда. Несмотря на то, что войны и мародерство остались позади, подобной предосторожностью все же не следовало пренебрегать…[124]
Надо сказать, что предчувствия не обманули обоих верных слуг. Несколькими днями позднее, прибыв в замок Л‘Э, принадлежавший его старому другу Антуану Рагье, военному казначею короля, Великий Бастард слег уже окончательно. Он еще успел подтвердить свои распоряжения об изготовлении и установке двух статуй, должных изображать соратников его молодости — Потона де Сентрайля и знаменитого Ла Гира. Прежняя болезнь дала о себе знать жестокими приступами боли, осложнившимися тяжелым бронхитом. Впрочем, деятельный врач, надеясь на то, что крепкий организм Дюнуа, закаленный в походах и лишениях, сможет и в этот раз превозмочь болезнь, спешно отправил аптекаря Жана Пишерона в Париж за редкими (и как полагалось, особо действенными) лекарственными травами. Пакет был доставлен вовремя, и Жан де Дюнуа, добродушно подсмеиваясь над усилиями своего лекаря (от судьбы все равно не уйдешь!), послушно пил предлагаемые ему отвары и настои. На какой-то момент, его состояние улучшилось, так что 8 ноября, вызвав к себе секретаря, он еще успел составить, а затем продиктовать несколько дополнительных параграфов к завещанию.
Спешно вызванный из Шатодена личный исповедник нашего Бастарда — Гильом де Шатофор, доктор теологии, застал его уже совершенно обессиленным, задыхающимся, но в полном сознании, и по-прежнему, обходительным и вежливым. Он находился «в комнате с постелью, где можно было опереться спиной на скрученное в валик стеганое одеяло из черного сатина, застеленную двумя покрывалами из булгарского хлопка, каковые он имел обыкновение всегда возить с собой».
23 ноября 1468 года, приняв последнее церковное напутствие, Жан де Дюнуа, Великий Бастард Франции скончался тихо и без мучений, сжимая в руках мощевик с находящейся внутри частичкой Св. Животворящего Креста. С этой реликвией он не расставался всю жизнь, и с нею же встретил свой конец.
Конечно же, его смерть вдали от дома, во время путешествия, несколько осложнила сыну и дочерям исполнение последней воли усопшего касательно его похорон — и все же, они постарались как можно точнее соблюсти желания отца. Набальзамированное тело было помещено в свинцовый гроб, внутренности, в согласии с обычаями времени, вынуты и уложены в деревянную штатулку, отправленную затем на вечное хранение в церковь в Божанси. Сердце Великого Бастарда, помещенное в свинцовую урну, укрытую сверху черным полотном, должно было вместе с траурным кортежем достичь Клери, а затем быть передано, опять же, на вечное хранение в св. Капеллу Шатодена, как мы помним, незадолго до того законченную и освященную.
|
Заупокойная месса по новопреставленному была отслужена в церкви замка Л‘Э, в присутствии 90 капелланов, и представителей четырех нищенствующих орденов, специально для того прибывших из столицы. И наконец, в полном соответствии с последним желанием нашего героя, долгий путь до Клери занял пять дневных переходов (Монлери, Этамп, Сен-Пераби, Божанси и наконец, Клери). Неспешно движущийся катафалк тянули две лошади, покрытые траурными попонами, на которых верхом сидели два юных пажа, одетых опять же в черное. Вместе с почетной свитой из дворян и служителей покойного, в траурных одеяниях, со штандартами, и флажками, украшенными гербом графа де Дюнуа (за ними пришлось срочно посылать в Шатоден), десятью капелланами верхом на конях, несколькими пешими клириками, 50 нищими, одетыми в черное платье и черные шапероны, несшими факела, также украшенные гербами, которые следовало по обычаю, зажигать при въезде в тот или иной город, и наконец, почетной охраной из ста «копий», кортеж неспешно двигался через затихшую толпу[125]. И люди со слезами на глазах крестились, и шептали молитвы, и повторяли про себя стихотворную эпитафию Элуа д’Армерваля, орлеанского поэта, уже разошедшуюся по рукам:
| |
Помолимся о добром капитане,
О доблестном сеньоре Дюнуа |
|
В каждом из городов кортеж встречало местное духовенство, сопровождавшее катафалк вплоть до местного собора, где вновь служилась заупокойная месса, и бессонные монахи до самого утра читали молитвы у гроба Великого Бастарда, нищим, и в особенности, бедным кормилицам раздавалась щедрая милостыня, так, что по обычаю, коленопреклоненно провожая уходящий прочь кортеж, они троекратно взывали к небу «Господи! Милосердия!» — молясь таким образом за душу усопшего[126].
В Пюизе после окончания заупокойной мессы, кортеж возглавил давний и преданный друг нашего Бастарда — епископ Шартрский Миль д’Илье, и вместе с ним к неторопливо движущейся процессии присоединились местные дворяне и десятки монахов из нищенствующих орденов. В Божанси, где толпа была столь плотной, что траурная процессия вынуждена была двигаться черепашьим шагом, и достигла местной церкви лишь когда уже начали спускаться сумерки, его встречали Франциск, отныне граф де Дюнуа, сын и наследник, и обе дочери покойного — Катерина и Мария. Здесь гроб был покрыт златотканым покрывалом, специально для того привезенным из Шатодена, и здесь же у изголовья покойного собрались вместе друзья, родственники и ближайшие слуги Орлеанского дома[126].
И наконец, в церкви Нотр-Дам-де-Клери, прямо во время заупокойной службы, двери неожиданно раскрылись настежь, пропуская внутрь короля Франции, не поленившегося вместе со скромной свитой галопом проделать путь из Плесси, где в это время остановился двор, чтобы почтить память своего верного соратника. В течение двух часов, пока шла заупокойная служба, король, преклонив колени на услужливо поданную ему подушечку, громко молился, перебирая в руках самшитовые четки. По окончании мессы, он подозвал к себе одного из представителей церковного капитула и вручил ему увесистый кошелек; причем находившейся внутри суммы хватило с лихвой, чтобы покрыть все расходы, полагавшиеся на похороны столь высокопоставленного аристократа.
В течение следующих дней король остановился в Божанси, где молодой граф Франциск спешно приготовил для него покои, в то время как службы продолжались безостановочно до 2 декабря, когда по окончании мессы во славу Св. Духа и Пресвятой Девы Марии, на которой вместе с Франциском де Дюнуа и епископом Шартрским, присутствовали ни много ни мало — сто тридцать четыре клирика и монаха, и последнего Реквиема, после того, как полагающуюся милостыню получили опять же ни много ни мало, две с половиной тысячи человек, гроб с телом Жана де Дюнуа, был опущен в приготовленную для него могилу, в капелле Св. Иоанна, рядом с могилой Марии д’Аркур[127].
Так ушел из жизни один из благороднейших людей своего времени, честь и гордость Франции, великий воин и дипломат Жан де Дюнуа. И нам остается лишь согласиться с высказыванием Филиппа де Коммина — придворного хрониста на службе герцогов Бургундских, который, несмотря не некоторое раздражение, которое вызвало в нем «предательство» Дюнуа по отношению к интересам бургундского герцогства, все же отметил: «Но приняв все во внимание, скажем — это был принц!»
Заключение
|
|
Жан де Дюнуа не дожил буквально двух лет до рождения первого внука. В 1470 году у Франциска и его жены Агнессы появился ребенок, в честь отца также получивший имя Франциск. Войдя в необходимый возраст, он в свою очередь женится на Франциске Алансонской, и в честь этого события, новый король Людовик XII – да-да, тот самый сын Карла Орлеанского, чьи права на трон во время своей последней встречи обсуждали король и Бастард – возвысит графство Лонгевилль в ранге до герцогства.
Франциск II умрет молодым,и земли вместе с титулом вновь перейдут, как это уже случалось в истории этого рода, к младшей ветви.
Леонор де Лонгевилль, представитель семейства в шестом поколении, соратник Карла IX в его войнах против гугенотов, сумеет добиться того, что семья наконец-то сможет подняться в ранге до принцев крови, несмотря на незаконное происхождение своего прародителя, и с согласия правящего монарха, с герба навсегда исчезнет широкая полоса, сменившись малопонятным «белым штрихом» посередине гербового поля – далеким напоминанием о прошлом.
Род де Дюнуа – герцоги, вельможи, военные – просуществует до 1694 года – времени царствования Людовика XIV, пресекшись окончательно со смертью последнего законнорожденного отпрыска – Жана-Луи, герцога Орлеан-Лонгевилльского, и единственным его представителем о станется – ну конечно же, бастард, так же как и его далекий предок носящий имя Жан. Однако, следы его теряются в истории, и посему, временем окончательного исчезновения семьи принято считать конец XVII века.
Начавшись в эпоху последнего взлета старой феодальной формации, род Жана де Дюнуа исчез вместе с ней, к счастью или несчастью для себя так и не увидев грозных времен Великой Революции. Им уже не дано было знать, что Большую Залу замка Шатоден, где их предок в последний раз в своей жизни принимал короля, в 1793 году местные санкюлоты превратят в судебную палату, которая, по жестокому обычаю времени, вынесет не один смертный приговор.
Род сошел с исторической сцены, словно бы выполнив свою миссию в полной мере. Живет память о Бастарде Орлеанском, хотя во многом остающемся в тени Девы Франции. Его помнит Орлеан, который вместе с Жанной ему удалось отстоять во время приснопамятной осады, его помнят авторы многочисленных научных и популярных работ; и конечно же, Национальная Библиотека Франции, бережно сохраняющая в отделе манускриптов «Часослов Дюнуа», на первой странице которого Бастард, еще совсем молодой, стриженый по военной моде, благоговейно преклонил колена перед Богородицей с Младенцем. Удивительно, что столь неординарная судьба почти не привлекла внимание создателей фильмов и книг, но будем надеяться – что будущее исправит и этот маленький недочет. На чем позвольте проститься с вами, читатель, вслед за одним из первых биографов нашего Бастарда – Каффеном де Мирувиллем посвятив свой труд «Валентине Висконти, герцогине Орлеанской, благодаря чьему благоразумию и нежности Жан Орлеанский сумел стать стал тем, кем стать был должен».
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 283
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Caffin de Mirouville, 2003, p. 284
- ↑ 3,0 3,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 285
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 287
- ↑ 5,0 5,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 288
- ↑ 6,0 6,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 289
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 290
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 291
- ↑ 9,0 9,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 292
- ↑ 10,0 10,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 293
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 295
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 296
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 298-299
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 298
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 299
- ↑ 16,0 16,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 301
- ↑ 17,0 17,1 17,2 Caffin de Mirouville, 2003, p. 302
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 303
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 304
- ↑ 20,0 20,1 20,2 Caffin de Mirouville, 2003, p. 306
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 305
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 309
- ↑ 23,0 23,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 307
- ↑ 24,0 24,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 308
- ↑ 25,0 25,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 310
- ↑ 26,0 26,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 311
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 312
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 315
- ↑ 29,0 29,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 317
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 316
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 318
- ↑ 32,0 32,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 319
- ↑ 33,0 33,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 320
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 321
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 323
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 324
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 325
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 328
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 326
- ↑ 40,0 40,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 327
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 329
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 330
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 331
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 332
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 333
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 334
- ↑ 47,0 47,1 47,2 Caffin de Mirouville, 2003, p. 335
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 336
- ↑ 49,0 49,1 49,2 49,3 Caffin de Mirouville, 2003, p. 337
- ↑ 50,0 50,1 50,2 Caffin de Mirouville, 2003, p. 338
- ↑ 51,0 51,1 51,2 Caffin de Mirouville, 2003, p. 339
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 340
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 342
- ↑ 54,0 54,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 343
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 344
- ↑ 56,0 56,1 56,2 Caffin de Mirouville, 2003, p. 345
- ↑ 57,0 57,1 57,2 57,3 Caffin de Mirouville, 2003, p. 346
- ↑ 58,0 58,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 348
- ↑ 59,0 59,1 59,2 Caffin de Mirouville, 2003, p. 347
- ↑ 60,0 60,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 350
- ↑ 61,0 61,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 351
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 352
- ↑ 63,0 63,1 63,2 Caffin de Mirouville, 2003, p. 353
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 355
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 356
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 358-359
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 359
- ↑ 68,0 68,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 362
- ↑ 69,0 69,1 69,2 Caffin de Mirouville, 2003, p. 363
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 365
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 366
- ↑ 72,0 72,1 72,2 Caffin de Mirouville, 2003, p. 367
- ↑ 73,0 73,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 369
- ↑ 74,0 74,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 371
- ↑ 75,0 75,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 373
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 372
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 375
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 376
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 377
- ↑ 80,0 80,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 378
- ↑ 81,0 81,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 379
- ↑ 82,0 82,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 380
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 383
- ↑ 84,0 84,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 385
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 384
- ↑ 86,0 86,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 398
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 390
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 391
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 392
- ↑ 90,0 90,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 393
- ↑ 91,0 91,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 394
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 395
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 396
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 399
- ↑ 95,0 95,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 401
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 403
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 404
- ↑ 98,0 98,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 405
- ↑ 99,0 99,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 406
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 407
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 409
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 410
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 414
- ↑ 104,0 104,1 104,2 Caffin de Mirouville, 2003, p. 416
- ↑ 105,0 105,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 418
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 417
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 419
- ↑ 108,0 108,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 422
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 426
- ↑ 110,0 110,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 427
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 428
- ↑ 112,0 112,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 429
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 430
- ↑ 114,0 114,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 431
- ↑ 115,0 115,1 115,2 Caffin de Mirouville, 2003, p. 432
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 434
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 433
- ↑ 118,0 118,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 435
- ↑ 119,0 119,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 436
- ↑ 120,0 120,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 437
- ↑ 121,0 121,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 438
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 439
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 440
- ↑ 124,0 124,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 441
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 443
- ↑ 126,0 126,1 Caffin de Mirouville, 2003, p. 442
- ↑ Caffin de Mirouville, 2003, p. 444